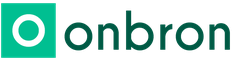Чем дети отличаются от взрослых
Вопрос о ребенке как раз принадлежит к числу таких, где до сих пор мифология цветет пышным цветом. Любая мать, например, задумывается, откуда берутся у ее ребенка те или иные проявления. Типичные мифологические ответы состоят, по существу, в преувеличении роли либо наследственности, либо среды. Приверженцы первой точки зрения полагают, что люди появляются на этой земле разными и в течение своей дальнейшей жизни не меняются. Для них ребенок уже с момента появления на свет наделен определенными чертами характера, умственными способностями и еще чем-то таким, что предопределяет его судьбу - удачей, жребием.
Вторая точка зрения состоит в том, что люди - их своеобразие - всецело определяются воздействием среды. Здесь имеются две различных возможности: 1) либо предполагается, что можно точно предусмотреть все воздействия и влияния среды, и тогда, по существу, это позиция Пигмалиона (или советского государства): дайте мне ребенка, и я сделаю из него все, что захочу; 2) либо признается, что влияния среды настолько многоразличны и многочисленны, что с практической точки зрения бессмысленно даже пытаться что-нибудь предусмотреть или предсказать, и из ребенка может получиться все что угодно.
Придерживаться мифов просто и в силу этого приятно. Вопрос об ответственности за собственное поведение и поведение ребенка теряет всякое содержание: либо все определяют врожденные факторы, либо среда. Если врожденные факторы, то заниматься воспитанием (или самовоспитанием) совершенно бесполезно, так как наследственность - то, с чем человек родился, - все равно свое возьмет. Если же все определяет среда, то либо я контролирую ее воздействия, и тогда все влияния среды очень существенны в плане формирования характера, либо пытаюсь учесть сочетание ее бесчисленных факторов, что все равно бесполезно, и это снова помогает нам увильнуть от ответственности.
Отчасти содержание мифов можно проверить данными науки. Например, точно установлено (близнецовыми исследованиями и многими другими методами), что вклад врожденных факторов в показатель интеллекта (IQ - Intelligent quotient) равен приблизительно 80%. Иными словами, показатель интеллекта, насколько можно сейчас об этом судить, целиком определяется наследственностью и от среды не зависит. Но это, что важно, не значит, что в свойствах ребенка повторяются свойства родителей: совокупность прирожденных свойств сложным образом зависит от наследственных факторов, ребенок может быть вовсе не похож ни на одного из родителей. «Бывает, впечатлительный ребенок фантазирует, что он в доме родителей - подкидыш. Да: тот, кто породил его, умер столетия назад» (Януш Корчак).
Показатель интеллекта показывает, насколько хорошо для своего возраста дети решают разные задачи. По мере того как дети растут, возрастают и их способности к решению задач. Этот (несомненный) факт привел Альфреда Бине к идее «умственного возраста» и породил идею определять коэффициент интеллекта, однако его огромное значение не только в этом: столько раз говорилось о том, что все дети - гении, что мы не всегда держим в уме, что все-таки взрослые умнее детей, т.е. лучше решают задачи. Редко кто постоянно, независимо от возраста, прогрессирует в интеллектуальных способностях, обычно старость все-таки приходит, и человек начинает хуже справляться с задачами, предъявляемыми жизнью, но все-таки на большом пространстве возраста от рождения до зрелости человек умнеет, взрослеет, растет его личность, созревают чувства.
Само представление об уровне интеллекта опирается на тот факт, что умственные навыки связаны между собой: если человек обладает хорошей памятью, очень велика вероятность того, что у него большой словарный запас и он легко справляется с арифметикой. Так обычно и бывает: способный ребенок способен во всем. Правда, это не относится к так называемым творческим способностям (креативности) - высокий показатель интеллекта служит только залогом того, что ребенок может хорошо учиться, будет успевать в средней и высшей школе. Коэффициент интеллекта (КИ), необходимый для того, чтобы успешно учиться в университете, составляет 120%; 100% КИ является нормой, а 140 и 80% встречаются довольно редко.
Другие измерения личности, если не претендовать на научную точность, можно в совокупности назвать характером. И вот здесь
разделить влияния наследственности и среды значительно труднее. Дело в том, что в нормальном случае среду ребенка образуют и определяют в основном его родители со всеми своими наследственно предопределенными особенностями, поэтому справедливо будет сказать, что в данном случае среда является продолжением наследственности. Разделить влияния среды и наследственности в этом - нормальном - случае не просто трудно, а невозможно.
Как уже говорилось (см. ч. 1, «Культура»), помимо наследственности и среды нужно учитывать такой механизм передачи информации, как культурная преемственность. Напомним: если переметить всю популяцию зайцев в данной роще и пристально наблюдать за ними, можно увидеть, что через 20 лет ни одного меченого зайца не останется в живых, а тем не менее нравы, обычаи, привычки зайцев останутся теми же. Культурная преемственность состоит в том, что новым (новорожденным) членам сообщества передаются культурные традиции.
Как сказал Эдвард Сепир, мы все участвуем в заговоре относительно реальности: мы договорились понимать ее определенным образом. На самом деле это неточно: никто ни с кем договаривался - дети в процессе своего развития постепенно приобщаются к определенному способу миропонимания, принятому в данном обществе. Если в обществе господствует, например, мифологический взгляд на мир, ребенок и вырастает в лоне этого взгляда. Свой особый мир, свой контекст бытия есть у каждого народа, у каждой семьи, у каждой школы.
В процессе складывания личности происходит привыкание к контексту данной гуманитарной системы - всех гуманитарных систем, в деятельности которых участвует ребенок. Пресловутое «почему?» ребенка снова и снова напоминает нам, что очень многое в жизни для нас «само собой разумеется», а когда хочешь искренне ответить на детский вопрос, обнаруживаешь полную невозможность это сделать. Ты просто привык обращаться с предметами и явлениями «правильно», «конвенционально», «как все». Вопрос «Почему?» у ребенка может означать: что это такое? как это делают? и что это значит? - и переводиться приблизительно так: научи меня обращаться с предметами и понятиями так, как это делают все люди, даже если не умеют об этом рассказать. Процесс приобщения к культуре представляет собой процесс привыкания к совместному с другими людьми употреблению понятий и обращению с предметами.
Ребенку приходится самому выстраивать контекст существования в культуре, в различных ее подсистемах, и этим его положение
в корне отличается от позиции взрослого, который просто уже выстроил этот контекст, а выстроив, перевел его в подсознание и потерял от него ключи. Никто не помнит, как это дьявольски трудно завязывать шнурки, чистить зубы, читать и писать, платить деньги, понимать фильмы и музыку. В каких еще подсистемах социума мы должны действовать, не задумываясь о заговоре, в котором мы все принимаем участие? Неосознаваемый контекст бытия, будучи освоенным, принимается нами как должное, мы привыкаем его использовать, не задумываясь о его существовании.
Жить вместе с другими, совместно с другими - это быть способным понимать некоторые простые вещи, которые совершенно не требуют объяснения, но при попытке сделать это взрослый растерянно останавливается, как перед внезапно возникшей стеной. Это порою странно обнаруживать: ты понимаешь окружающую тебя реальность совершенно определенным образом, но не отдаешь себе в этом отчета; ты уверен, что и другие разделяют твою уверенность в том, что все люди понимают эту реальность одинаково. И так оно и есть, но только в пределах того сообщества, которое сложилось в данное время и в данном месте.
Например, дзэн-буддизм - это образ жизни и взгляд на жизнь, который нельзя свести к какой-либо формальной категории современной западной мысли. Это не религия и не философия, не психология и не наука, это образец того, что в Индии и Китае называют «путь освобождения». Западная мысль становится в тупик при попытках описать этот феномен - путь освобождения не поддается положительному определению, его можно описать лишь косвенно, указав, чем он не является.
Слово становится средством общения лишь в том случае, когда собеседники опираются на похожие переживания. Ребенок осваивает не только сам язык, но те особенности мышления, которые с помощью языка выражаются. Знаменитый чаньский вопрос: «Куда девается кулак, когда я разжимаю пальцы?» - подразумевает для европейца, что объект (кулак) существовал, а потом куда-то делся. В китайском же языке многие слова являются одновременно и глаголами, и существительными, так что человеку, мыслящему по-китайски, нетрудно понять, что он никуда не делся, для него предметы являются также действиями (сжимание и разжимание кулака), и наш мир - совокупность скорее процессов, чем сущностей.
Кроме языка, ребенок должен воспринять многие другие разновидности кодов. Нам трудно общаться друг с другом, если мы не можем идентифицировать себя в терминах ролей - отец, учи-
тель, рабочий, художник, «славный парень», спортсмен и т.д. В той степени, в какой мы идентифицируем себя с этими стереотипами и связанными с ними правилами поведения, мы и сами ощущаем, что на самом деле чем-то являемся.
Воспитание представляет собою процесс, в результате которого человек становится способен играть эти социальные роли, отождествлять себя с одним или несколькими сообществами, осваивает коды, при помощи которых данное сообщество выражает свое миропонимание. «Что такое ребенок?» «Чем, собственно говоря, ребенок отличается от взрослого?» Вот чем - естественной (потому что все через это проходят) недееспособностью. Он не умеет, не знает, а потому и не может того, что может взрослый, и пока и поскольку это так, он является ребенком. Он станет взрослым, когда у него появится неявный контекст бытия.
Взрослые гораздо больше похожи на детей, чем дети на взрослых. Для многих детей грузовик – это Большая Машина. Они долго не могут понять, что грузовик устроен для перевозки товаров, а обыкновенная легковая машина – для перевозки людей.
Точно так же для многих взрослых людей ребенок – это Маленький Взрослый. Они не понимают, что у ребенка другие проблемы, чем у взрослого. Хотя взрослый временами ведет себя и даже должен вести себя как Большой Ребенок, ребенок – это не Маленький Взрослый. Представление о том, что ребенок – это взрослый в миниатюре, можно было бы назвать представлением о гомункулусе (гомункулусом называется маленький смышленый человечек).
Чем же ребенок отличается от взрослого? Ребенок беспомощен. По мере того как он растет, он становится менее беспомощным, но по-прежнему зависит от родителей, которые должны научить его, как делать разные вещи. По мере того как его учат делать то или другое, у него появляются все новые предметы для усвоения; но, как мы уже говорили, он не может научиться тому, к чему еще не готова его нервная система. Время, когда у него созревают различные нервы, например нервы ног или кишечника, зависит от качества нервной системы, унаследованной им от родителей. Если ребенок родился преждевременно, его приходится иногда держать в инкубаторном устройстве, прежде чем его тело достаточно созреет для колыбели.
Образы у детей смутные. Вначале ребенок может лишь отделить внешний мир от самого себя. Он учится выделять отдельные предметы, и образы его становятся точнее. Взрослым требуется много лет опыта, чтобы уточнить свои образы, и даже после этого они не так уж хорошо выделяют существенные предметы. У ребенка же такого опыта нет; пока он учится, и сам он и его родители должны проявлять выдержку и терпение.
Минерва Сейфус, например, всегда была для своего возраста необычайно развитым ребенком. Когда она училась ходить, она время от времени переворачивала разные вещи, как и все дети в это время. Однажды она перевернула пепельницу, и ей было сердито сказано, чтобы она больше этого не делала. Для матери ее важно было, чтобы пепельница содержала пепел; но в возрасте Минервы при всем ее развитии внимание девочки было привлечено к чему-то более простому: не к содержимому пепельницы, а к ее внешнему виду. Ей хотелось угодить матери, но она оказалась под ложным впечатлением. Дело в том, что эта пепельница была голубого цвета, и Минерва сказала себе, что будет слушаться матери и никогда больше не перевернет какого-нибудь из этих голубых предметов. На другой день она принялась играть светло-зеленой пепельницей; за это мать ее жестоко выбранила, восклицая: "Ведь я говорила тебе никогда больше не играть с пепельницей!" Минерва была озадачена. Она ведь тщательно избегала всех голубых тарелок согласно своему истолкованию требования матери, и вот ее бранят за то, что она играла зеленой! Когда мать поняла, в чем ошиблась, она объяснила: "Посмотри, это пепел.
Для него и нужны эти тарелочки. В пепельницы кладут вот эти серые зернышки. Не переворачивай ничего, в чем лежит эта штука!" И тогда Минерва впервые поняла, что пепельница – это не голубая тарелка, а предмет, в котором содержится серый порошок. После этого все было в порядке.
Если мать недооценивает трудностей ребенка и не объясняет ему разные вещи настолько ясно, чтобы избежать недоразумений, то наказание может потерять для него всякий смысл; и если это повторяется раз за разом, то он в конце концов уже и не пытается быть хорошим и ведет себя, как ему вздумается, поскольку чувствует, что ему никогда не понять, чего от него хотят. Ребенок может прийти к выводу, что наказания – нечто вроде непредсказуемых "актов Провидения", периодически поражающих его независимо от поступков.
Тем не менее наказания вызывают у него обиду, и он может совершать дурные поступки, чтобы отомстить матери. В ряде случаев всего этого можно избежать, следуя примеру миссис Сейфус, то есть ясно и недвусмысленно объясняя ребенку, чего от него требуют.
Младенец занят главным образом основными вопросами жизни, дыханием и едой и заботится об этих вещах прежде всего. Взрослому известно (с определенной степенью достоверности), что при нормальных условиях он будет есть в надлежащее время. Ребенок может не иметь такой уверенности, поскольку не знает, в чем состоят требуемые условия, а знает только, что все это зависит от матери. У него вскоре создается представление, что первая гарантия безопасности от испуга и голода состоит в том, чтобы мать его любила, и он начинает делать усилия для приобретения ее любви. Если он не уверен в материнской любви, он становится беспокойным и пугливым. Если мать делает вещи, которые он в его возрасте не может понять, это может расстроить его, как бы ясно ни понимала свои действия его мать. Если ей приходится прервать кормление, чтобы позаботиться о его больном отце, и если она его при этом не приласкает, это может точно так же испугать ребенка, как если бы мать его бросила, не желая о нем заботиться. Запуганный ребенок – это несчастный и трудный ребенок. Когда он видит возможность отомстить за какой-нибудь испуг, вроде описанного выше, он может этой возможностью воспользоваться. Он не способен мыслить достаточно ясно, чтобы понять, что такое поведение может принести ему больше вреда, чем пользы.
Жизнь ребенка полна потрясений и поразительных явлений, которых мы, взрослые, не можем вполне оценить. Представьте себе, какое потрясение для ребенка – родиться! И как он должен удивиться, впервые увидев книгу! Мать говорит ему, что эти черные значки – "кошка". Но ведь он знает, что кошка – это пушистое животное. Как же черные значки могут быть тем же самым, что и пушистое животное? До чего это удивительно! Ему хотелось бы узнать об этом побольше.
Еще по теме 1. Чем взрослый отличается от ребенка?:
- Ниал Фергюсон. Цивилизация. Чем Запад отличается от остального мира, 2014
- 3. Чем отличается психиатрический социальный работник от других психотерапевтов?
- Материальная выгода в виде экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами. Чем отличается заем от кредита
- О голотропном дыхании широкой публике мало что известно. В нескольких словах – что это такое и чем оно отличается от обычного?
- Не доверяя ребенку, ты мешаешь ему открыть то, что для него действительно необходимо, к тому же в тот момент, когда он в этом нуждается. Именно поэтому, уже будучи взрослым, человеку так трудно бывает распознать свои истинные потребности
Еще Мария Монтессори говорила о том, что не стоит смотреть на детей, как на маленьких взрослых и воспитывать их без учета особенностей их физического и психического развития. Сегодня ученые уже доказали, что дети видят этот мир совсем другими глазами. Они воспринимают его иначе в буквальном смысле слова. Иногда родители воспринимают это как непослушание или очередную странность ребенка, но на самом деле, это всего лишь возрастая норма.
Предлагаем вам ознакомится с особенностями развития детского мышления и его отличиями от взрослого взгляда на мир.
8 удивительных фактов, которые доказывают, что дети воспринимают мир совсем по-другому
Научно доказано, что дети думают и воспринимают окружающий мир иначе. Они не понимают, как все устроено, но со многими вещами, безусловно, справляются лучше нас. Однако длится это недолго. Считается, что к 11 годам ребенок полностью овладевает способностью мыслить подобно взрослым.
Как отличается детское мышление от взрослого? И нужно ли детям учиться всему, что умеют взрослые, или некоторые способности даются от рождения?
Фантазия или реальность?
Детям сложно отличить фантазию от реальности. Они могут быть искренне убеждены, что то, что они себе вообразили, действительно происходило.
Если вы попросите ребенка описать какое-нибудь воображаемое событие, а затем серьезно спросите о нем же некоторое время спустя, ребенок поверит в то, что сам же и выдумал.
Но есть четкое разграничение. Если малыш сам сочинил свою фантазию, он в ней сомневаться не будет. Но если услышит нечто неправдоподобное от другого человека, в половине случаев не поверит, как и взрослый.
Как предполагают ученые, проводившие тестирование, скорее всего у детей нет четкой грани между реальностью и своими фантазиями, потому что они пока не понимают, какие знания можно считать верными, а какие – нет. Этот навык приходит, когда дети становятся старше.
Постоянство объекта
Если бы прямо перед вашими глазами кто-то спрятал предмет, а затем внезапно переместил его в другое место, вы бы без труда смогли ответить, куда он делся. Это очевидно.
Однако, если вы будете прятать детскую игрушку, например, под салфеткой, платком или одеялом, позволяя ребенку видеть ее, а затем переместите игрушку под другую салфетку, ребенок ее не найдет. Кажется нереальным, но именно так происходит с детьми примерно до 10-12 месяцев.
Почему? Впервые этот эффект заметил известный психолог Жан Пиаже. Он показал, что до определенного возраста дети реагируют так, будто пропавший из их поля зрения предмет перестает существовать вовсе.
По мнению Пиаже, понятие “постоянства объектов” не дано нам с рождения. Мы начинаем понимать, что предметы существуют и без нашего восприятия, только повзрослев. А 10-месячный малыш еще не знает, что исчезнувший объект все еще существует.
Языки
Не секрет, что научиться иностранному языку ребенку намного проще. Чем старше мы становимся, тем больше усилий приходится прикладывать, чтобы хотя бы освоить разговорную речь. А, например, дети из двуязычных семей могут одновременно и с успехом говорить на двух языках, несмотря на отсутствие специального обучения.
Ученый-лингвист Ноам Хомский выдвинул идею универсальной грамматики и предположил, что у любого языка есть общий набор синтаксических правил, встроенных в наш мозг с рождения. Он предположил, что есть некий общий инструмент, связывающий все языки, и дети, похоже, четко понимают, что почти все предложения строятся по принципу «субъект-глагол-объект». Логика, по которой мы выстраиваем предложения, продиктована природой и биологическими особенностями нашего мозга.
С возрастом способность к овладению языками становится намного слабее. Есть много точек зрения, когда проще всего воспринимается иностранный язык. Кто-то считает, что до 18-летнего возраста, а кто-то, что способность слабеет уже с 9-ти.
Понятие обратимости
Если перелить воду из широкого стакана в высокий, вы будете уверены в том, что воды в стакане столько же, потому что никто ее туда не добавлял и не отливал.
Детям до 7 лет объяснить это невозможно, им будет казаться, что раз стакан выше, то и воды в нем больше. Им будет непонятно, почему количество жидкости остается неизменным, раз стакан изменил форму. Также считается, что дети не могут учитывать одновременно высоту и ширину, а фокусируются только на одной величине, игнорируя другую.
Лица
Ученые считают, что уже через пару часов после рождения младенец способен отличать лицо матери от других. Но чтобы полностью адаптироваться к восприятию человеческих лиц, у ребенка не хватает опыта и времени. Он способен улавливать множество тонких черт и различать эмоции, но отличать лица людей другой расы не может.
Абстрактное мышление
Мысли детей в возрасте до 11 лет основаны на конкретной реальности. Дети не могут предпринимать какие-то действия и размышлять над воображаемыми проблемами, и не очень хорошо разбираются в абстрактных суждениях.
Когда психолог Рудольф Шаффер попросил девятилетних детей подумать, где было бы здорово разместить на теле третий глаз, все указали на свой лоб, хотя этот ответ был довольно бессмысленным, потому что на лбу и так уже есть два глаза. Однако 11-летние дети уже были способны размышлять над абстрактными вещами, и стали предлагать другие решения, например кисти рук, чтобы видеть что-нибудь за углом или сзади.
Рисуют не то, что видят
Техника рисования у детей хуже, чем у взрослых: не до конца развита моторика, и дети пока не могут твердо держать карандаш или кисть в руке.
Но любопытно другое: психологи провели эксперимент, поставив перед детьми в возрасте 5-9 лет кружку с ручкой. Кружка была размещена так, чтобы дети не могли видеть ручку. А детей попросили нарисовать именно то, что они видят.
Дети 5-7 лет нарисовали кружку с ручкой, хотя видно ручки не было, а дети старшего возраста нарисовали очевидное. В этом же заключается разница между детьми и взрослыми. Если взрослого попросят нарисовать именно то, что он видит, он, очевидно, не будет рисовать ручку на кружке. А дети рисуют, потому что знают, что она должна там быть.
Морали
У вас, скорее всего, есть собственные понятия о морали. Вы понимаете, как важно совершать хорошие поступки или соблюдать законы, и, возможно, вы понимаете, что иногда эти правила можно нарушать.
Моральные суждения ребенка проще. У самых маленьких они основаны на том, как избежать наказания. Позднее рассуждения развиваются, и ребенок начинает осознавать, что правильный способ поведения – это тот, который вознаграждается. А со временем эти рассуждения формируются, превращаясь в моральные аргументы, как у большинства взрослых.
В одном из исследований на эту тему детям задали простой вопрос: что хуже, сломать много очков, но случайно, или сломать одни, но специально. Для взрослого будет понятно, что второй поступок, когда это делается со злыми намерениями, гораздо хуже. Но большинство маленьких детей ответило, что тот, кто сломал больше очков – совершил худший поступок, потому что причинил больше вреда.
Посвященным функциям
полушариев, я лишь слегка коснулась темы,
как часто нас ограничивает предыдущий опыт.
И вот, совершенно неожиданно, она получила новое звучание.
В тот же день я посетила мастер-класс компании Business Relations
" Как создать яркое будущее?"
Его провел Арсен Рябуха. Очень образно, убедительно и с большой долей юмора он доказал, что довольно часто наш жизненный опыт нам мешает .
Как же так?
Ведь мы считаем, что именно опыт дает нам определенные преимущества.
Именно этим взрослые и отличаются от детей . Мы знаем что-то такое, чего они еще не ведают.
Другой вопрос: "Делает ли это знание нас счастливее?"
Весь зал начал смеяться, когда Арсен предложил ответить на вопрос: "Встречали ли вы хоть одного 3-ех летнего ребенка-скептика или ребенка в депрессии?"
Ну да, это даже трудно представить.
А сколько таких людей среди взрослых?
дети всегда живут в моменте здесь и сейчас
Наши маленькие детки взирают на мир открытыми и доверчивыми глазами. Они находятся в удивительном состоянии полного принятия жизни и еще не отягощены своим прошлым.
Его у них слишком мало.
Дети не учатся жить в моменте "Здесь и Сейчас", имея эту способность от рождения. Они очень органичны в этом состоянии и умеют получать удовольствие от самых разных мелочей, на которые мы уже давно не обращаем внимание.
Когда малыш чего-то хочет, то отдается этому со всей неистовой страстью своего желания. И меньше всего думает о возможных препятствиях и ограничениях.
Мы, взрослые, очень часто теряем эту способность: "Радоваться тому, что имеем сейчас".
В отличие от детей мы умеем смотреть в Будущее только через призму своего опыта.
Это происходит независимо от того, насколько мы успешны или реализованы.
Замечательно, когда этот опыт - позитивный.
А если нет? Такое ведь тоже случается.
Эта метафора Арсена понравилась мне своей точностью:
"Так как наш взгляд почти все время обращен к опыту прошлого, мы движемся к будущему спиной. Может из-за этого, параллель между нашим прошлым и задницей напрашивается сама собой "- пошутил Арсен.
"А разве не так? Ведь именно эта, выдающаяся часть тела, находится впереди нашего движения к будущему. И если говорить образно: то у кого-то она или оно (задница = прошлое) очень большая, у кого-то поменьше. Только суть та же. Двигаясь столь неудобным способом, мы умудряемся собирать и собственные продукты жизнедеятельности - все то, что наше прошлое переработало и выдало за неудачный опыт. Мы не желаем расставаться с этим грузом. И с каждым шагом он становится все больше и тяжелее. Мы тянем его из последних сил, но редко задаемся вопросом:
"Зачем? Зачем мы так упорно тащим с собой то, что не приносит нам пользу? Какой в этом смысл?"
Мы забываем о том, что опыт – всего лишь наш уникальный способ восприятия и осмысливания информации, который мы выдаем за истину. Хотя, истины, как таковой не существует.
"Истина - это то, что полезно" - гласит одно из правил НЛП
Представьте, что мы ждем переезда в новую, просторную квартиру. Но вместо того, чтобы выбросить ненужный хлам, накопившийся за эти годы, мы грузим все в бесчисленные коробки.
С красными от напряжения лицами, забиваем грузовик под завязку, ревностно наблюдая, чтобы ничего из нажитого не пропало. А, разложив барахло, удивляемся: "Почему квартира не радует? Вчера она выглядела такой большой и светлой. А сегодня удивительным образом напоминает прежнее жильё."
Мы не осознаем, что дело не в квартире, а в том, чем мы её забили. "Тараканы нашего прошлого" всегда оказываются вместе с нами, если вовремя не избавляться от них, вместе с отжившими век вещами. Можно, конечно, игнорировать, брезгливо отворачиваться, бояться или страдать, глядя на их полчища. В лучшем случае нам снова захочется поменять квартиру (и мы по старой привычке соберем все свои коробки), в худшем,- тараканы сделают нашу жизнь невыносимой.
Почему мне пришла в голову именно эта метафора?
К счастью, я давно не встречалась вживую с этим "Ужасным Зверем", но его виртуальные собратья (негативные мысли и эмоции) время от времени заводятся в моей голове.
И, чтобы избавится от них, я выбрала Жизнь в Осознанности .
Первый шаг к этому – я стала наблюдателем своей собственной жизни, умозаключений и чувств, которые испытываю (умею замечать тараканов).
Второй – я благодарю любой опыт за ту пользу, которую он приносит (понимаю причину появления тараканов).
Третий – выбрасываю из головы те мысли и эмоции, которые мне мешают (избавляюсь от ненужного хлама и тараканов).
В отличие от нас, наши дети живут в чистом пространстве. Они существуют в состоянии полной открытости, радости и ожидания бесконечного волшебства. Их ничего не сдерживает, кроме нас, взрослых.

Мы делаем из них свои маленькие копии, наполняя сомнениями, страхами, неуверенностью. Привычно передаем им свой опыт, так же, как когда-то получили его. Оставляя им в наследие "тараканов своего и родительского прошлого".
Руководствуясь добрыми побуждениями, мы открываем им всю правду о мире. Не давая возможность познать собственные истины.
Они взрослеют и бунтуют против этого. Набивают собственные шишки и получают свой опыт. Проходит время и круг замыкается….
У них появляется свой маленький ребенок, которого так хочется уберечь, огородить от опасностей непредсказуемого мира.
"Это - невозможно! Это – плохо! А вот так – нельзя!"- говорят они уже своему малышу. И в этот момент, в их голове слышится до боли знакомый мамин голос.
Эту эстафету поколений можно остановить. И стоит начать с себя.
Попробуйте понаблюдать: "Чем же взрослые отличаются от детей?"
И возьмите у своих маленьких деток те бесценные уроки мудрости, которые, в отличие от нас, они еще не успели забыть.
Спасибо Арсену Рябухе за то, что еще раз напомнил об этом (хотя мастер-класс был посвящен совсем другой теме).
P.S В 2009 году на ОРТ вышел документальный фильм "Контекст, или искусство быть счастливым". В его основу легли материалы тренинга компании Business Relations (президент, он же и ведущий тренинга "Контекст" - Владимир Герасичев). Фильм в буквальном смысле "взорвал аудиторию" и вызвал оживленные дискуссии. Сейчас уже отсняты материалы для 2-ого фильма, который состоит из 8-ми серий. Не так давно я побывала на закрытом показе 1-ой серии - Прощение. Очень мощное впечатление! Надеюсь, что наш Первый Канал в скором времени начнет показывать этот фильм.
ВСЕГО ДОБРОГО!
С УВАЖЕНИЕМ, АРИНА
Странный вопрос! Наверное, тем же, чем и взрослые от детей. А что делать, если взрослый человек не может сравнить, хотя бы потому, что просто не помнит себя в детстве? Редко кто может похвастаться устойчивыми воспоминаниями раньше 3, а то и 5 лет. Но ведь до того возраста человек тоже живёт, растёт и очень активно развивается. Так что же скрывает наша память?
Первое, и самое главное отличие детей от взрослых — серьёзные пробелы в знаниях об этом мире. Которые они активно пытаются восполнить. Именно поэтому дети рассматривают, нюхают и пробуют всё на ощупь, на вкус, пытаются ответить на вопрос «как это устроено?» всеми доступными способами и задают кучу вопросов. И со стороны родителей ругать, а то и наказывать, своих чад за стремление учиться — не просто глупо, но и недальновидно, — впереди учёба в школе. Где дети, которых наказывали за попытки самостоятельно изучить мир, окажутся в заведомо проигрышном положении.
Второе отличие, очевидное — размеры и возможности физического тела. Физические тела детей растут и развиваются, поэтому им нужны и правильное питание, и физические нагрузки, и полноценный сон — об этом знают все. А о том, что происходит развитие нервной системы детей, дозревание отделов и становление функций головного мозга, во внимание принимают меньше. А о том, что физическая активность ребёнка напрямую влияет на его умственное развитие знают вообще немногие. Дело не только в подвижных играх на свежем воздухе, ребёнку нужна информация о мире, а для этого он должен и трогать, и манипулировать предметами, и передвигаться в пространстве — у его должны быть задействованы все органы чувств. Именно на основе этой информации ребёнок создаёт полноценные образы, которыми учится оперировать в ходе мышления. Например, яблоко — круглое, зелёное, гладкое, прохладное, с особым запахом, вкусом и консистенцией мякоти. А ещё, косточки у него могут особо постукивать внутри. И яблоки бывают разными, но есть качества, которые их все объединяют в одно понятие.
Третье отличие — непосредственность. Дети изучают мир, запоминают что здесь и как называется, и активно пользуются полученными знаниями, сообщая всем пассажирам автобуса, что дядя лысый, а тётя очень толстая. Дети, в отличие от взрослых, только учатся самостоятельно идентифицировать эмоции, которые испытывают в той или иной ситуации, и учатся у родителей способам их выражения. А о том, что окружающие тоже способны что-то чувствовать, и что с этими чувствами надо считаться, детям обычно рассказывают родители, ибо это и есть воспитание.
«Непосредственность» взрослых имеет совсем другое происхождение.
И четвёртое отличие, более всего отдаляющее миры взрослых и детей, — центрированность. Центром мира каждого ребёнка, является он сам. И именно этот факт позволяет ребёнку так быстро развиваться, усваивать колоссальный объём информации, сохраняя, при этом поразительную гибкость психики. Именно поэтому время в детстве течёт так медленно.
Центр мира взрослого человека в 98% случаев лежит вне его самого, поэтому счастье и благополучие большинства взрослых зависят не от них самих.
Сдвиг этого центра происходит в процессе воспитания, из-за непосредственного желания ребёнка быть любимым и доказать родителям свою любовь.
Любите ваших детей и будьте счастливы.
Ещё интересные материалы:
|
|