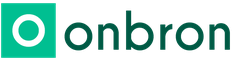Прасковья федоровна. Прасковья Фёдоровна: биография
Представительница рода Салтыковых, дочь стольника и воеводы Фёдора (Александра) Петровича Салтыкова (ум. 2 февраля 1697 года) от его 1-го брака с Екатериной Федоровной, чья девичья фамилия неизвестна. Также встречается указание, что она - дочь его 2-й жены Анны Михайловны, урождённой Татищевой (ум. 1702).
Её братья и сестры: Василий Фёдорович Салтыков. Его женой была дочь Г. Ф. Долгорукова. Анастасия - была замужем за Иваном Ромодановским, сыном князя-кесаря. Федосья- была замужем за Василием Ивановичем, внуком последнего касимовского правителя Сеид-Бурхана, в родословиях обычно не указывается.
Любопытно, что царица происходила из семьи изменников: её прямой предок боярин Михаил Глебович «Кривой», принимая видное участие в смутах, служил Лжедмитрию I и Лжедмитрию II, а в 1612 году выехал с сыновьями в Польшу в составе русского посольства, да там и остался, щедро одаренный королем Сигизмундом III. Там и вырос его внук Александр Петрович, который при царе Алексее Михайловиче (с возвращением Смоленска) принял русское подданство. На основании некоторых известий, он был в Енисейске комендантом, откуда вызван царевной Софьей. Тем не менее, род Салтыковых был весьма знатен, поставил немало бояр, и по крови и свойству Прасковья была связана с Трубецкими, Прозоровскими, Стрешневыми, Куракиными, Долгорукими и др., что оказало большое влияние на её дальнейшее положение.
Брак с Иоанном Алексеевичем.
20-летняя Прасковья была выбрана на традиционном царском смотре невест, она была на 2 года старше жениха.
Женитьба Ивана была инициирована правительницей царевной Софьей, поскольку линии Романовых-Милославских был желателен наследник. По указаниям биографа царицы М. И. Семевского, греческий историк Феодози говорил, что брак Ивана был задуман князем Василием Голицыным, который, считая насильственные меры против Петра крайне опасными, советовал Софье: «Царя Иоанна женить, и когда он сына получит, кой натурально имеет быть наследником отца своего, то не трудно сделаться может, что Петр принужден будет принять чин монашеский, а она, Софья, опять за малолетством сына Иоаннова, пребудет в том же достоинстве, которое она желает…». Затем Феодози добавляет, что «хотя Царь Иоанн сперва к тому (браку) никакой склонности не оказывал, однако не был он в состоянии противиться хотению сестры своей». Костомаров пишет: «Есть предположение, что в этаком выборе царя Ивана Алексеевича было участие царевны Софии: это подтверждается, во-первых, тем, что София уже прежде относилась благосклонно к родителю Прасковьи, перед тем пожалованному званием боярина; во-вторых, тем, что, по слабоумию своему, царь Иван Алексеевич едва ли был способен без чужого влияния решиться на важный шаг в жизни».
«Первая красавица России», Прасковья заявила (по свидетельству шведского дипломата Хильдебрандта Горна), что она «скорее умрет», чем выйдет за больного и хилого Ивана, но была выдана за него насильно.
Венчание состоялось 9 января 1684 года. Обряд венчания в соборной церкви совершал патриарх Иоаким с ключарем и тремя диаконами. «А на утро следующего дня, как велось это обыкновенно, царю и царице готовили мыльни разные, и ходил царь в мыльню, и по выходе из неё возлагали на него сорочку и порты, и платье иное, а прежнюю сорочку велено было сохранять постельничему. А как царица пошла в мыльню и с нею ближние жены, и осматривали её сорочку, а осмотря сорочку, показали сродственным женам немногим для того, что её девство в целости совершилось, и те сорочки, царскую и царицыну, и простыни, собрав вместе, сохраняли в тайное место». Её отец Александр Салтыков был переименован по случаю свадьбы в Фёдора и пожалован в бояре, правителем и воеводой города Киева. Это изменение имени подтверждает в своих записках Патрик Гордон. (Обычай менять отчество цариц на «Федоровна» связан с реликвией Романовых Федоровской иконой Божьей Матери). Пять лет у них не было детей, но как только появилось известие, что Прасковья забрюхатела, вдовствующая царица Наталья Кирилловна тоже женила своего сына Петра Алексеевича (поскольку наследник был желателен и Романовым-Нарышкиным). Невесту Петра Лопухину также звали Прасковьей (Илларионовной), но её имя сменили на «Евдокия Федоровна».
В браке, в особом тереме в Кремле, Прасковья и Иван прожили 12 лет, произведя на свет пятерых дочерей, и ни единого мальчика, что облегчило династическую ситуацию с приходом к единоличной власти Петра I.
Внешность её М. Семевский (ссылаясь на портрет, хранившийся в московском Новоспасском монастыре), описывает так: «невеста Ивана была высока, стройна, полна; длинные волосы густыми косами ниспадали на круглые плечи; круглый подбородок, ямки на щеках, косички, красиво завитые на невысоком лбу - все это представляло личность интересную, веселую и очень миловидную». Она неукоснительно соблюдала обрядовую сторону православия, была суеверна и плохо знала грамоту.
В 1686-1692 годах её стольником был Степан Глебов, в будущем - любовник сосланной царицы Евдокии Лопухиной, казнённый за это Петром. Другим её стольником был Иван Дмитриевич Алмазов.
После смерти мужа в 1696 году, скончавшегося в 30-летнем возрасте, вместе с 3 оставшимися в живых дочерьми поселилась в загородной царской резиденции Алексея Михайловича в селе Измайлове (по мнению Семевского, оно не было отдано ей в собственность, она жила не на доходы, а на назначенный деверем оклад). Петр для управления хозяйством и для удовлетворения её нужд отдал в полное распоряжение Василия Алексеевича Юшкова и предоставил выбрать место жительства. Должность дворецкого, по-видимому, исполнял её родной брат Василий Федорович Салтыков, приставленный к ней Петром в 1690 году.
В документах XVIII века вдовствующую царицу продолжают именовать «Ее величество государыня царица Прасковея Федоровна».
Дружила со своей золовкой царевной Натальей и помогала ей в создании любительского театра. Царица Евдокия праздновала в Измайлове дни рождения и именины своего супруга, царя Петра Алексеевича. В 1698 году имперский посол посещает её со свитою в Измайлове и встречает радушный прием, описанный его секретарем Корбом: «За послом следовали музыканты, чтобы гармоническую мелодию своих инструментов соединить с тихим шелестом ветра, который медленно стекает с вершины деревьев. Царицы, царевич и незамужние царевны, желая немного оживить свою спокойную жизнь, которую ведут они в этом волшебном убежище, часто выходят на прогулку в рощу и любят гулять по тропинкам, где терновник распустил свои коварные ветви. Случилось, что августейшие особы гуляли, когда вдруг до их слуха долетели приятные звуки труб и флейт; они остановились, хотя возвращались уже во дворец. Музыканты, видя, что их слушают, стали играть ещё приятнее. Особы царской крови, с четверть часа слушая симфонию, похвалили искусство всех артистов».
С 1714 до своей смерти владела имением Иоановским (Ивановский дворец, Старо-Ивановское село, Ново-Ивановское село) к западу от Лигова, названным в честь её супруга. После смерти царицы имение 10 лет принадлежало её дочерям Прасковье и Екатерине. Деревянный Ивановский дворец был просторным (имел 9 парадных комнат - светлиц). Последнее его изображение датируется 1777 годом.
Кроме царского оклада, царица Прасковья Федоровна получала ещё доходы со своих вотчин деньгами и запасами. Вотчины эти находились в разных волостях Новгородского, Псковского и Копорского уездов, также на Ставропольской сотне, так что во владении её находилось 2477 посадских и крестьянских дворов. Известен «Наказ» царицы своему дворовому человеку Ивану Дружинину относительно её земель в Новгородском уезде. В нём она повелевает о недержании «под смертной казнью» в её волостях беглых солдат и пришлых всяких людей, которых повелено было - «выбивать вон», «также вином и табаком чтобы крестьяне не торговали и корчмы никакой не держали б, и с воровскими людьми не знались», царица Прасковья напоминает: «а вам, крестьянам, конечно, прикащика во всем слушать и расправу меж вами ему, прикащику, чинить».
| Скачать |
Царица Прасковья Федоровна: царственная приживалка
Поздней осенью 1723 года в Санкт-Петербурге можно было наблюдать редкое зрелище: хоронили последнюю русскую царицу давно ушедшего в историю XVII века. Это были настоящие царские похороны – торжественные и долгие. Время словно остановилось: глядя на толпу неведомо откуда появившихся старых боярынь, уродов, старух, монахинь, медленно ползущих к Александро-Невскому монастырю, казалось, будто бы не было никаких петровских реформ…
Хоронили вдовствующую царицу Прасковью Федоровну. В двадцать лет ее – настоящую русскую красавицу, кровь с молоком, из знатного рода Салтыковых, статную, с длинной русой косой и здоровым румянцем во всю щеку, – выдали замуж за старшего брата и соправителя Петра Великого восемнадцатилетнего царя Ивана Алексеевича, человека убогого и слабоумного. О нем говорили, что как-то раз на дворе загородного Коломенского дворца под Москвой его завалило в нужнике рухнувшей некстати поленницей березовых дров. И только много часов спустя русского самодержца освободили из плена – никому-то этот царь, фактически лишенный Петром власти, не был нужен…
Свадьбу Ивана и Прасковьи сыграли в 1684 году. Брак этот, как сказано выше, состоялся по воле его старшей сестры, царевны Софьи Алексеевны, которая таким образом желала окончательно перекрыть путь к власти своему сопернику – царю Петру. После свадьбы прошло девять месяцев, потом еще девять месяцев, а детей у молодоженов так и не было… Словом, Софья, свергнутая Петром в августе 1689 года, так и не дождалась вожделенных племянников, которыми предполагала заткнуть династическую дыру.
Правда, к концу регентства Софьи и четырех лет «раздумья» в 1689 году Прасковья родила девочку – Марию, а затем почти залпом – еще четырех дочерей: в 1690-м – Федосью, в 1691-м – Екатерину, в 1693-м – Анну (будущую императрицу) и в 1694 году – Прасковью. Когда царь Иван в 1696 году умер, Прасковья осталась с тремя дочерьми – Екатериной, Анной и Прасковьей, ее старшие дочери Мария и Федосья умерли в младенчестве. Современники, зная немощи царя Ивана, сомневались в том, что он был истинным отцом девочек, и одни кивали в сторону немца – учителя Иоганна Христиана Дитриха Остермана, старшего брата будущего вице-канцлера Андрея Ивановича, а другие намеками указывали на стольника Юшкова, получившего в дальнейшем огромное влияние в окружении вдовствующей царицы Прасковьи. Впрочем, Остерман появился позже, когда девочки подросли, а слабоумие царя Ивана не есть свидетельство его репродуктивной немощи – как раз чаще бывает наоборот…
После смерти мужа Прасковья с дочками переселилась из Кремля в загородный дворец Измайлово. К семье старшего брата Петр относился вполне дружелюбно и спокойно – Прасковья и девочки не были ему соперниками, дорога его реформ прошла в стороне от дворца царицы Прасковьи, до которого лишь доходили слухи о грандиозном перевороте в жизни России. Царь не чурался общества своей невестки, хотя и считал ее двор «госпиталем уродов, ханжей и пустосвятов», имея в виду многочисленную придворную челядь царицы.
Измайловский двор оставался островком старины в новой России: сотни стольников, штат царицыной и царевниных комнат, десятки слуг, мамок, нянек, приживалок были готовы исполнить любое желание Прасковьи и ее дочерей. Вообще Измайлово было райским, тихим уголком, где как бы остановилось время. Теперь, идя по пустырю, где некогда стоял деревянный, точнее, «брусяной с теремами» дворец, который напомнил бы современному человеку декорации Натальи Гончаровой к опере «Золотой петушок» Римского-Корсакова, с трудом можно представить себе, как текла здесь жизнь. Вокруг дворца, опоясывая его неровным, но сплошным кольцом, тянулись двадцать прудов: Просяной, Лебедевский, Серебрянский, Пиявочный и другие. По их берегам цвели фруктовые сады – вишневые, грушевые, яблоневые. В Измайлово было устроено своеобразное опытное дворцовое хозяйство. Тут были оранжереи с тропическими растениями, цветники с заморскими «тулпанами», большой птичник и зверинец, тутовый сад и виноградник, который даже плодоносил. Во дворце – маленький театр, и там впервые ставили пьесы, играл оркестр и, как пишет иностранный путешественник И.Корб, побывавший в Измайлове в самом конце XVII века, нежные мелодии флейт и труб «соединялись с тихим шелестом ветра, который медленно стекал с вершин деревьев». Есть старинное русское слово – «прохлада». По Владимиру Далю, это «умеренная или приятная теплота, когда ни жарко, ни холодно, летний холодок, тень и ветерок». Но есть и обобщенное, исторически сложившееся понятие «прохлады» как привольной, безоблачной жизни – в тишине, добре и покое. Именно в такой прохладе и жила долгое время, пока не выросли девочки, Прасковья Федоровна.
В тогдашнем неустойчивом мире царица сумела найти свое место, ту нишу, в которой ей удавалось выжить, не конфликтуя с новыми порядками, но и не следуя им буквально, как того требовал от других своих подданных Петр. Причина заключалась не только в почетном статусе вдовствующей царицы, но и в тех осторожности, политическом такте, которые всегда проявляла Прасковья. Она держалась вдали от политических распрей той эпохи. Ее имя не попало ни в дело царевны Софьи и стрельцов в 1698 году, ни в дело царевича Алексея и царицы Евдокии – старицы Елены – в 1718 году. Это показательно, ибо Петр, проводя политический розыск, не щадил никого, в том числе и членов царской семьи. Может быть, отстраненность вдовствующей царицы объясняется ее особой приземленностью, отсутствием всяческих амбиций. Прямо скажем: Прасковья была необразованной и не особенно умной, но достаточно хитрой, с развитым холопьим чувством угождать сильному.
Блаженная жизнь в Измайлове продолжалась до 1708 года, когда Петр вызвал невестку в свой Санкт-Петербург, вначале на время, а потом велел ей там поселиться навсегда вместе с дочерьми. Здесь царица и царевны увидели широкую, серую и неприветливую Неву, которая быстро несла к морю свои воды. Она была так не похожа на светлые, теплые речки Подмосковья… Но делать нечего – с царем не поспоришь! Прасковью поселили во дворце, что стоял на Московской стороне, ближе к современному Смольному. И хотя эти места были повыше и посуше, нежели болотистая Городская (Петербургская) сторона или Васильевский остров, привыкнуть к новому, «регулярному», построенному по строгим архитектурным канонам дворцу московским дамам было трудно. Туманы, сырость и слякоть, пронизывающий ветер новой столицы – все это так отличалось от родного Измайлова.
Переезд в Петербург для Прасковьи Федоровны совпал с тем тревожным для каждой матери подросших дочерей временем, когда решается их женская судьба. Между тем Петр решил в корне поменять старую династическую политику, которая строилась на изоляции России, когда сознание исключительности веры не позволяло связывать Романовых с другими правящими династиями. Петр начал выдавать женщин семьи Романовых за иностранных принцев. В 1710 году он поставил первый эксперимент: предписал Прасковье Федоровне выдать одну из ее дочерей за курлядского герцога Фридриха Вильгельма. Царица не возражала, хотя жених ей не нравился. Но она схитрила: оставив при себе любимую старшую дочь Екатерину, отдала на заклание среднюю дочь Анну, которую не очень жаловала. Судьба Анны не сложилась, почти сразу же после свадьбы юная герцогиня овдовела, но, исполняя волю Петра, отправилась в Митаву и там долгие годы сидела в жалкой роли безвластной правительницы. Всеми делами ее ведал русский посланник в Курляндии Петр Бестужев-Рюмин, который заодно сожительствовал с Анной. Это вызывало безмерный гнев царицы Прасковьи, которая, судя по письмам, буквально тиранила дочь, была к ней сурова, беспощадна, годами отказывая ей даже в традиционном материнском благословении. При этом она пыталась следить за каждым шагом Анны в Митаве, стремилась выжить оттуда Бестужева, которого страстно ненавидела, просила царя посадить возле дочери человека из ее, царицы, окружения. Не раз старая царица рвалась сама поехать в Курляндию, чтобы навести угодный ей порядок при дворе дочери-герцогини. Упрямство и скрытность Анны, приписываемые ей разнообразные грехи и прегрешения – все это вызывало раздражение Прасковьи, которая то прерывала с дочерью переписку, то требовала, чтобы Анна немедленно с повинной явилась к ней в Петербург. В 1720 году Анна сообщала царице Екатерине Алексеевне, что мать ей давно не пишет, а устно велела «со многим гневом ко мне приказывать: для чево я в Питербурх не прашусь, или для чево я матушку к себе не зову». Этого-то Анна как раз больше всего боится и в письме к Екатерине умоляет хорошо относившуюся к ней супругу Петра поучаствовать в небольшой инсценировке – обмане: «Хотя к матушке своей о том писать я стану и праситца к ним (в Петербург. – Е.А. ), аднакож, матушка моя, дорогая тетушка (так Анна обращалась к Екатерине. – Е.А. ), по прежнему моему прошению до времени меня здеся додержать соизволите». Анна испытывала истинный страх перед матерью, ибо знала, что в Петербурге, во дворце царицы Прасковьи, ее ждали унижения и бесконечные придирки. Незадолго до смерти, осенью 1723 года, Прасковья написала дочери письмо, по-видимому, не очень доброе. И тогда Анна вновь прибегла к спасительному посредничеству супруги Петра, прося ее передать матери следующее: «Ежели в чем перед нею, государынею матушкою, погрешила, [то] для Вашего Величества милости, меня изволит прощать». Екатерина, по-видимому, просьбу Анны передала царице Прасковье, и та написала в Митаву: «Слышала я от моей вселюбезнейшей невестушки, государыни императрицы Екатерины Алексеевны, что ты в великом сумнении якобы под запрещением или, тако реши (по-современному: так сказать. – Е.А. ), проклятием от меня пребываешь, и в том ныне не сумневайся: все для вышеупомянутой Ея Величества моей вселюбезнейшей государыни невестушки отпущаю вам и прощаю вас во всем, хотя в чем вы предо мною и погрешили». «Отпущает» дочери, как видим, да только ради «невестушки».
Зато всю свою любовь Прасковья перенесла на старшую дочь Екатерину (которую звала Катюшка-свет), держа ее при себе так долго, как это было возможно. В отличие от сестер и многих других москвичей, тосковавших на болотистых неприветливых берегах Невы по обжитой милой Москве, царевна Катюшка быстро приспособилась к стилю жизни молодого, продуваемого всеми ветрами города. Этому благоприятствовал характер царевны – девушки жизнерадостной и веселой, прямо скажем, даже до неумеренности. Ей, как, впрочем, и другим юным дамам российской столицы, новые порядки светской жизни, праздники и, конечно, моды были необычайно симпатичны и просто кружили голову.
А вообще же создается впечатление, что не очень уж подавленная Домостроем русская женщина ХVII века как будто только и ждала петровских реформ, чтобы вырваться на свободу. Этот порыв был столь стремителен, что авторы «Юности честного зерцала» – кодекса поведения молодежи, опубликованного в 1717 году, – были вынуждены предупреждать девицу, чтобы она, несмотря на открывшиеся перед ней возможности светского обхождения, соблюдала скромность и целомудрие, не носилась по горницам, не садилась к молодцам на колени, не напивалась бы допьяна, не скакала бы, наконец, по столам и скамьям и не давала бы себя тискать «яко стерву» по всем углам. Это было написано будто специально для излишне раскованной, бесшабашной Катюшки.
Особенно горячо она полюбила петровские ассамблеи, где до седьмого пота отплясывала с кавалерами. Маленькая, краснощекая, чрезмерно полная, но живая и энергичная, она каталась, как колобок, и ее смех и болтовня не умолкали весь вечер. Не изменился пылкий характер Екатерины и позже, когда на ее голову посыпались неприятности. «Герцогиня – женщина чрезвычайно веселая и всегда говорит прямо все, что ей придет в голову». Так писал о ней камер-юнкер голштинского герцога Карла Фридриха Берхгольца. Ему вторил испанский дипломат герцог де Лириа: «Герцогиня Мекленбургская – женщина с необыкновенно живым характером. В ней очень мало скромности, она ничем не затрудняется и болтает все, что ей приходит в голову. Она чрезвычайно толста и любит мужчин». Екатерина была совершенной противоположностью высокой и мрачной сестре Анне, и насколько не любила мать-царица Прасковья Федоровна среднюю дочь, настолько же она обожала старшую Катюшку-свет, которая всегда была рядом с матерью, потешая и веселя старую царицу. Но в 1716 году по воле царя ей пришлось отдать и Катерину в жены мекленбургскому герцогу Карлу Леопольду – субъекту странному, даже сумасшедшему, окончившему жизнь в тюрьме за преступления против своего дворянства. Когда стало ясно, что семейная жизнь дочери не сложилась, главной страстной целью жизни царицы Прасковьи стало стремление вытащить Катюшку из Мекленбурга домой. Сохранились десятки ее писем к царю и его жене Екатерине Алексеевне с уничижительными, слезными мольбами вызволить из-за моря свет-Катюшку. А когда стало известно, что в 1718 году Катерина родила девочку – Елизавету Екатерину Христину (будущую Анну Леопольдовну), Прасковья Федоровна удвоила свои старания. Малышка сразу – хотя и заочно – стала любимицей царицы. Здоровье внучки, ее образование, времяпрепровождение были предметами постоянных забот бабушки. Когда же Анне исполнилось три года, Прасковья стала писать письма уже самой внучке. Они до сих пор сохраняют человеческую теплоту и трогательность, которые часто возникают в отношениях старого и малого: «Пиши ко мне о своем здоровье и о здоровье батюшки и матушки своей рукою, да поцелуй за меня батюшку и матушку – батюшку в правой глазок, а матушку в левой. Да посылаю тебе, свет мой, гостинцы: кафтан теплой для того, чтоб тебе тепленько ко мне ехать. Утешай, свет мой, батюшку и матушку, чтобы они не надсаживались в своих печалях (а печали были действительно большие: Карл Леопольд так настроил против себя мекленбургское дворянство, что ему грозил имперский суд и отречение. – Е.А. ), зови их ко мне в гости и сама с ними приезжай, и я думаю, что с тобой увижусь потому, что ты у меня в уме непрестанно. Да посылаю я тебе свои глаза старые (тут, в строчке, нарисованы два глаза. – Е.А. ), уже чуть видят свет, бабушка твоя старенькая хочет тебя, внучку маленькую, видеть». Тема возможного приезда герцогской четы в Россию становится главной в письмах старой царицы к Петру и Екатерине. Прасковья Федоровна страстно хочет завлечь дочь с внучкой в Петербург и там оставить, благо дела Карла Леопольда идут все хуже и хуже: объединенные войска германских государств уже изгнали его из герцогства, и Карл Леопольд вместе с женой обивал имперские пороги в Вене. Помочь ему было трудно. Петр с раздражением писал племяннице весной 1721 года: «Сердечно соболезную, но не знаю, чем помочь. Ибо, ежели бы муж ваш слушался моего совета, ничего б сего не было, а ныне допустил до такой крайности, что уже делать стало нечего». К 1722 году письма царицы Прасковьи становятся просто отчаянными. Она, чувствуя приближение смерти, просит, умоляет, требует – во что бы то ни стало она хочет, чтобы дочь и внучка были возле нее. «Внучка, свет мой! Желаю тебе, друг сердечный, всего блага от всего моего сердца, да хочется, хочется, хочется тебя, друг мой, внучка, мне, бабушке старенькой, видеть тебя маленькую и подружиться с тобою: старая с малым очень дружно живут. Да позови ко мне батюшку и матушку в гости и поцелуй их за меня, и чтобы они привезли и тебя, а мне с тобой о некоторых нуждах самых тайных подумать и переговорить (необходимо)». Самой же Екатерине царица угрожала родительским проклятием, если та не приедет к больной матери. Вновь и вновь писала царица и Петру, прося его помочь непутевому зятю, а также вернуть ей Катюшку.
К лету 1722 года старая царица наконец добилась своего, и Петр потребовал, чтобы мекленбургская герцогская чета прибыла в Россию, в Ригу. Император писал в Росток, что если Карл Леопольд приехать не сможет, то герцогиня должна приехать одна, «так как невестка наша, а ваша мать, в болезни обретается и вас видеть желает».
Воля государя, как известно, закон, и Екатерина с дочерью, оставив супруга одного воевать с собственными вассалами, приезжает в Россию, в Москву, в Измайлово, где ее с нетерпением ждет царица Прасковья, посылая навстречу нарочных с записочками: «Долго вы не будете? Пришлите ведомость, где вы теперь? Еще тошно: ждем да не дождемся!» И когда 14 октября 1722 года голштинский герцог Карл Фридрих посетил Измайлово, то он увидел там довольную царицу Прасковью в кресле-каталке: «Она держала на коленях маленькую дочь герцогини Мекленбургской – очень веселенького ребенка лет четырех».
Уже из этого рассказа видно, что роль, которую играла вдовствующая царица Прасковья Федоровна при императорском дворе, была самой жалкой. Ни о каком царском достоинстве вдовствующей царицы даже речи не шло. Прасковья напоминала тех убогих вдов, старух-приживалок, которых бывало немало в домах богатых помещиков: их место – на дальнем конце барского стола, среди малопочтенной толпы таких же, как и она, полушутов и шутих, приживалок, компаньонок различного вида и рода. Если устраивал царь шутовской маскарад, то и царица выряжалась в «зазорный» для ее высокого статуса и почтенного возраста наряд фрисландской крестьянки и участвовала в шутовских шествиях и многодневных попойках, большим любителем которых был, как известно, великий преобразователь России. Но все-таки она больше жалась к жене Петра Екатерине Алексеевне. Вот ее-то, вчерашнюю портомою-простолюдинку, особенно старательно обхаживала старая царица из знатного рода. Она писала ей ласковые до приторности письма, спешила напомнить о себе приветами и подарками – ведь через «государыню матушку-невестушку» Екатерину был самый короткий путь к Петру и милостям его. Ублажала Прасковья униженными просьбишками и любовника императрицы – обер-камергера Виллима Монса. Да и денщикам Петра находился подарок у старой царицы – тоже ведь люди нужные…
Когда же в барском доме вдова-приживалка была не надобна, она скрывалась в своем ветхом флигеле. Там, на отшибе, после всех унижений, она отдыхала, тешилась с многочисленными карлами, дурками, приживалками, вымещая скверное настроение и злобу уже на подневольных и зависимых от нее людях. Так царица Прасковья укрывалась в своем неуютном петербургском доме, если не удавалось вырваться в родное Измайлово. Среди челяди она могла отдохнуть, сбросить опостылевшую новоманирную одежду и всласть покуражиться над холопами и холопками. Между прочим, в ее окружении состоял полупомешанный подьячий и юродивый Тимофей Архипыч – автор бессмертного афоризма: «Нам, русским людям, хлеб не надобен, мы друг друга ядим и тем сыты бываем!» Кто может эту сентенцию опровергнуть? Хотя Прасковья, по старой традиции, была богомольна, но далеко не безгрешна – кровь ее еще не остыла. В 1703 году писавший портреты ее дочерей австрийский художник и путешественник де Бруин наметанным взглядом ловеласа отметил, что царица-то еще ничего себе: бела, дородна, с гибким станом, обходительна и приветлива к мужчинам. Один из них долгие годы пользовался ее особым расположением. Это был стольник Василий Юшков. Случайно на глаза посторонних попало зашифрованное примитивным кодом письмецо Прасковьи к Юшкову, начинавшееся словами: «Радость, мой свет!» Обычно так обращались друг к другу люди, связанные интимными отношениями.
У Прасковьи, как и у каждой барской приживалки, были где-то далеко свои деревеньки, ими управлял наглый приказчик, который под рукой нещадно обворовывал старуху. Его звали Василий Деревнин, и когда в 1722 году он был уличен в злоупотреблениях, то по требованию царицы его доставили в московское отделение Тайной канцелярии, расположенное, между прочим, на Лубянской площади. Дворовые на руках отнесли к этому времени обезножевшую царицу в лубянский подвал и там в ее присутствии, по ее же приказу, жестоко пытали Деревнина. В конце пытки Прасковья приказала облить голову расхитителя царицыных доходов водкой и поджечь. Деревнин, получив страшные ожоги, еле выжил. Дело получило огласку, самим Петром было наряжено следствие, и все участники расправы были пороты батогами за самоуправство: виданное ли дело – такое нарушение законности в заведении на Лубянке, так сказать, в нашей святая святых! Но саму Прасковью царский гнев, разумеется, миновал – мы знаем, у кого трещат чубы!
В начале 1720-х годов Прасковья тяжело заболела, и эта болезнь в конечном счете свела царицу в могилу. Согласно легенде, перед самым концом она попросила зеркало и долго-долго всматривалась в свое лицо, пытаясь, может быть, разглядеть неуловимые черточки приближающейся смерти… А похороны ей действительно были устроены царские: балдахин из фиолетового бархата с вышитым на нем двуглавым орлом, изящная царская корона, желтое государственное знамя с крепом, печальный звон колоколов, гвардейцы, император со своей семьей, весь петербургский свет в трауре. Сигнал – и высокая черная колесница, запряженная шестеркой покрытых черными попонами лошадей, медленно поползла по улице, которую позже назовут Невским проспектом.
Из книги Царица Прасковья автора Семевский Михаил ИвановичЦаревна Прасковья Ивановна Царевна Прасковья - государыне Екатерине Алексеевне(Без означения года). Декабря 3Свет мой, сестрица Катерина Алексеевна! Здравствуй, матушка моя сестрица, на множество лет, и с государем моим батюшкою, и общим нашим дядюшкою, с царем Петром
автора Вострышев Михаил ИвановичИщите женщину! Графиня Прасковья Ивановна Шереметева (1770-е-1803) Памятники зодчества Москвы и ее окрестностей не зря зовут каменной летописью столицы. Они могут поведать любознательному человеку об удивительных делах и поучительных историях минувшего. Новодевичий
Из книги Московские обыватели автора Вострышев Михаил ИвановичКочевая жизнь. Приживалка Феодосия Ивановна Бартенева (1790–1835) Понятия «семья» и «гость» в семье Бартеневых сливались воедино. Не потому, что их дом был полной чашей и по нему всегда расхаживали приглашенные на обед или бал друзья, а наоборот. Бартенева с детьми вела
Из книги Московские обыватели автора Вострышев Михаил ИвановичБелая, словно ангел. Благотворительница Прасковья Алексеевна Муханова (1809–1894) Прасковья Алексеевна Муханова доживала свой век в одиночестве в родовой усадьбе на углу Остоженки и Ильинского переулка. В глубине обширного двора стоял ее деревянный оштукатуренный дом с
автораЦарица Евдокия Федоровна: необыкновенная живость глаз Иностранец, побывавший летом 1725 года в Шлиссельбургской крепости, пишет, что возле одного из домов внутри крепости он увидел статную высокую женщину, которая, заметив иностранцев, вдруг стала махать им руками.
Из книги Толпа героев XVIII века автора Анисимов Евгений ВикторовичПрасковья Жемчугова: последняя роль Третьего февраля 1803 года графиня Шереметева, знаменитая Прасковья Ивановна Жемчугова, родила сына Дмитрия, и тотчас ею овладел панический страх. Она страшно боялась, что новорожденного могут похитить или убить… Прасковья Ивановна
Из книги 100 великих узников [с иллюстрациями] автора Ионина НадеждаЦарица Евдокия Федоровна Первая супруга Петра I была из рода Лопухиных, не считавшихся знатными, но они пользовались расположением царицы Натальи Кирилловны, которая и женила царя на молодой красавице Авдотье. Брак совершился 28 января 1689 года, тихо, скромно, без
Из книги Тайная канцелярия при Петре Великом автора Семевский Михаил ИвановичЦАРИЦА ПРАСКОВЬЯ
Из книги Тайны египетской экспедиции Наполеона автора Иванов Андрей ЮрьевичЦарственная голова Франция ждет и волнуется.В каких песках затерялся наш Бонапарт, от которого давно нет известий?Император Павел, по восшествии на престол, отказался было от участия в коалициях и искал сближения с Францией, но вскоре переменил виды. А захват острова
автора Хмыров Михаил Дмитриевич80. ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА (в иночестве Елена), царица первая жена царя Петра I Алексеевича, еще не императора, дочь окольничего (потом боярин) Иллариона-Федора Абрамовича Лопухина от брака с неизвестною.Родилась 30 июля 1669 г.; по выбору царицы Наталии Кирилловны, матери царя
Из книги Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови автора Хмыров Михаил Дмитриевич109. ИРИНА ФЕДОРОВНА (в иночестве Александра), царица жена царя Федора I Ивановича, дочь царедворца Федора Ивановича Годунова от брака со Степанидой Ивановной (в иночестве Сандулия), известной только по имени.О годе и месте ее рождения сведений нет; вышла за Федора, еще
Из книги Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови автора Хмыров Михаил Дмитриевич128. МАРИЯ ТЕМГРЮКОВНА, по христианскому отчеству - Федоровна, царица вторая жена царя Ивана IV Васильевича Грозного, «из черкас пятигорских девица», дочь владетеля кабардинского Темгрюка Андоровича.Год ее рождения не известен. По св. крещении в Москве обвенчана с царем
Из книги Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови автора Хмыров Михаил Дмитриевич132. МАРИЯ ФЕДОРОВНА (в иночестве Марфа), царица седьмая жена царя Ивана IV Васильевича Грозного, дочь окольничего Федора Федоровича Нагого.Год ее рождения не известен;, вышла за царя Ивана IV в сентябре 1580 г.; быв царю уже «не угодною», родила в Москве сына, царевича Дмитрия, 19
Из книги Алфавитно-справочный перечень государей русских и замечательнейших особ их крови автора Хмыров Михаил Дмитриевич161. ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА, царица жена царя Ивана V Алексеевича, дочь стольника и воеводы енисейского (потом боярин) Федора-Александра Петровича Салтыкова от брака с Екатериной Федоровной, неизвестной по фамилии.Родилась в Нижнем Новгороде 12 октября 1664 г.; венчана с царем
Из книги Русские исторические женщины автора Мордовцев Даниил ЛукичVI. Княжна Прасковья Григорьевна Юсупова (в монахинях Прокла) Княжна Юсупова была одной из тех женщин новой после-петровской Руси, которые еще помнили Петра Великого, но которым суждено было пережить после него тяжелое время петербургских дворцовых смут, бироновщину и
Из книги С.Я. Лемешев и духовная культура Тверского края автора Шишкова Мария ПавловнаПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА ВЕРЕВКИНА (1854–1892) Меццо-сопрано и контральто Прасковья Николаевна Верёвкина (урождённая Зилова) (1854–1892) - племянница писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина. Она родилась в селе Страшевичи Старицкого уезда Тверской губернии. После окончания Петербургской
Значение ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии
ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА
Прасковья Федоровна - царица (урожденная Салтыкова, 1664 - 1723), жена (с 1684 г.) царя Иоанна Алексеевича, мать императрицы Анны Иоанновны. Овдовев, она проживала со своими дочерьми преимущественно в с. Измайлове. Воспитанная на началах старинного дореформенного быта, царица Прасковья едва знала грамоту, была полна суеверий, предрассудков и ханжества: "двор невестки, - говорил про нее Петр Великий, - госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов". Тем не менее она сознавала необходимость преобразований, умела примеряться к обстоятельствам и уступала современному духу в воспитании своих дочерей, в препровождении времени, в забавах и развлечениях. За это Петр Великий не только снисходил к некоторым ее слабостям, но даже питал к ней любовь и уважение. См. монографию о ней М.И. Семевского, вышедшую в 1888 г. вторым изданием. В. Р-в.
Краткая биографическая энциклопедия.
2012Смотрите еще толкования, синонимы, значения слова и что такое ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА в русском языке в словарях, энциклопедиях и справочниках:
- ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА в Словаре воровского жаргона:
- … - ПРАСКОВЬЯ в словаре Синонимов русского языка.
- ПРАСКОВЬЯ в Полном орфографическом словаре русского языка.
- САХАРОВА ПРАСКОВЬЯ ФЕДОРОВНА
Прасковья Федоровна (1890, с. Тайдаково, ныне Заокского района Тульской обл., - 2.12.1969, Москва), советский партийный деятель. Член КПСС с 1912. … - ПРАСКОВЬЯ (ГРЕЧЕСК.) в Значениях имен:
пятница разговорное - Парасковья просторечное - Парасковея, Прасковея старое - Параскева производные - Прасковьюшка, Праскуня, Куня, Праскута, Прося, Проня, Параня, … - МАРИЯ ФЕДОРОВНА, СУПРУГА АЛЕКСАНДРА III
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Мария Федоровна (1847 - 1928), императрица, супруга императора Александра III , до бракосочетания принцесса … - МАРИЯ ФЕДОРОВНА в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Мария Федоровна, имя нескольких лиц: Мария Федоровна, супруга Ивана Грозного (+1610). Мария Федоровна, супруга Павла … - МАКАРОВА ПРАСКОВЬЯ КУЗЬМИНИЧНА в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Параскева (Макарова) (1878 - 1938), послушница, преподобномученица. В миру Макарова Прасковья Кузьминична. Память … - ДАНИЛОВА МАРИЯ ФЕДОРОВНА в Православной энциклопедии Древо:
Открытая православная энциклопедия "ДРЕВО". Данилова Мария Федоровна (1884 - 1946), мученица. Память 30 декабря и в Соборе … - ШЕЛЕХОВА МАРЬЯ ФЕДОРОВНА
Шелехова (Марья Федоровна, урожденная Монруа) - известная русская оперная певица (меццо-сопрано) 30-х и начала 40-х годов XIX столетия; воспитывалась в … - ЧЕПЕЛЕВСКАЯ ПРАСКОВЬЯ ИЛЬИНИШНА в Краткой биографической энциклопедии:
Чепелевская (Прасковья Ильинишна, умерла в 1881 году) - учредительница женской учительской семинарии в Москве. Напечатала: "Элементарный курс французского языка, уроки … - ЦВАНЦИГЕР ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Цванцигер (Елизавета Федоровна) - профессор пения, родилась в 1846 г. Окончив курс в петербургской консерватории, занималась в ней сначала в … - ХВОЩИНСКАЯ ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Хвощинская (Прасковья Дмитриевна) - младшая сестра Н. Д. и С. Д. Хвощинских. Родилась в Рязани в 1832 г. Писала под … - УВАРОВА ПРАСКОВЬЯ СЕРГЕЕВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Уварова (графиня Прасковья Сергеевна) - жена графа Алексея Сергеевича Уварова, урожденная кн. Щербатова, родилась в 1840 г., известная деятельница … - ТАРНОВСКАЯ ПРАСКОВЬЯ НИКОЛАЕВНА (РОЖДЕННАЯ КОЗЛОВА) в Краткой биографической энциклопедии:
Тарновская (Прасковья Николаевна, рожденная Козлова) - женщина-врач, писательница, супруга В.М. Тарновского (XXXII, 650). Написала замечательную монографию: "Женщины-убийцы" (СПб., 1902; антропологическое … - РОСТОВСКАЯ МАРЬЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Ростовская (Марья Федоровна, урожденная Львова, умерла в 1872 г.) - писательница. Сочинения ее: ряд нравоучительных рассказов для маленьких детей: "Приключения … - РАДЕН ЭДИТА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Раден (баронесса Эдита Федоровна, 1825 - 1885) - одна из замечательнейших женщин высшего русского общества. Многосторонности ее глубокого образования много … - ПРАСКОВЬЯ ИОАННОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Прасковья Иоанновна - царевна, младшая дочь Иоанна Алексеевича и Прасковьи Федоровны (см. ниже; 1694 - 1731). Несмотря на свою хворость, … - ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Платонова (Юлия Федоровна) - известная русская оперная певица (1841 - 1892), дебютировала с успехом в опере "Жизнь за Царя", в … - ОЧКИНА ПРАСКОВЬЯ ПАВЛОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Очкина (Прасковья Павловна, 1841 - 91) - артистка московских частных сцен и писательница. Была классной дамой в московском театральном училище; … - ЛУПАЛОВА ПРАСКОВЬЯ ГРИГОРЬЕВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Лупалова, Прасковья Григорьевна, известная под именем Параши-Сибирячки (1798 - 1809). Происходила из бедной дворянской семьи. Отец ее был осужден за … - ЛОПУХИНА ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Лопухина, Евдокия Федоровна - см. Евдокия Федоровна (первая супруга Петра I … - КОММИССАРЖЕВСКАЯ ВЕРА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Коммиссаржевская Вера Федоровна - знаменитая актриса (1864 - 1910), дочь певца Ф.П. Коммиссаржевского. В 1883 году Коммиссаржевская вышла замуж … - КАЛИГРАФОВА НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Калиграфова, Надежда Федоровна - "Мельпомена московской сцены", актриса с большим дарованием, которое особенно проявлялось при изображении черствых, злобных, коварных и … - ИРИНА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Ирина Федоровна - сестра Бориса Годунова, супруга царя Федора Иоанновича. Брак ее с последним совершился по воле Грозного … - ИВАНОВА ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Иванова, Елизавета Федоровна - одна из первых по времени русских актрис. Выдвинулась в Москве исполнением роли Евгении, о котором дал … - ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Елизавета Федоровна - русская великая княгиня, принцесса гессен-дармштадская, родилась 20 октября (1 ноября) 1864 г., с 3 июня 1884 г. … - ЕВПРАКСИЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Евпраксия Федоровна - дочь князя смоленского Федора Святославича, вторая жена великого князя Симеона Гордого (1345). В 1346 г. отослана великим … - ЕВДОКИЯ ФЕДОРОВНА (ЛОПУХИНА) в Краткой биографической энциклопедии:
Евдокия Федоровна - первая супруга Петра I (1669 - 1731), дочь боярина Федора Лопухина. Петр I вступил в брак с … - ВСЕВОЛОЖСКАЯ ЕВФИМИЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Всеволожская Евфимия Федоровна - дочь касимовского помещика Федора-Руфа (или Рафа) Родионовича Всеволожского. Родилась в 1629 или 1630 г. Когда в … - ВОЛКОВА АННА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Волкова Анна Федоровна - первая русская женщина-химик, ученица профессоров А.Н. Энгельгардта и П.А. Лачинова; работала у А.М. Бутлерова в … - ВАСИЛИССА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Василисса Федоровна - см. в статье Василисса (имя русских княгинь) … - БЫКОВА АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Быкова, Александра Федоровна, урожденная Проскурякова - писательница, родилась в 1863 г.; по окончании курса на петербургских педагогических курсах по словесному … - БАКУНИНА ПРАСКОВЬЯ МИХАЙЛОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Бакунина Прасковья Михайловна - см. в статье Бакунины … - АУЭРБАХ ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА в Краткой биографической энциклопедии:
Ауэрбах, Юлия Федоровна, писательница (1827 - 1871). Не обладая крупным литературным дарованием, она проявляла в своих произведениях любовь к народу … - АННЕНКОВА ПРАСКОВЬЯ ЕГОРОВНА (ПОЛИНА) в Краткой биографической энциклопедии:
Анненкова, Прасковья (Полина) Егоровна, см. Анненков, Иван Александрович … - РОЗМИРОВИЧ ЕЛЕНА ФЁДОРОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Елена Фёдоровна , советский партийный и государственный деятель. Член Коммунистической партии с 1904. … - ПЛАТОНОВА ЮЛИЯ ФЕДОРОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
(псевдоним; настоящая фамилия Гардер, по мужу Тванева) Юлия Федоровна , русская певица (лирико-драматическое сопрано). Дебютировала … - ПАНОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Вера Федоровна , русская советская писательница. В 20 - 30-е гг. работала в газетах и журналах … - НЕЙБУРГ МАРИЯ ФЕДОРОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Мария Федоровна (Фридриховна) , советский палеоботаник, доктор геолого-минералогических наук (1941). Окончила Высшие женские курсы в Томске … - МАЛИНИНА ПРАСКОВЬЯ АНДРЕЕВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Прасковья Андреевна [родилась 28.10(10.11).1904, село Саметь, ныне Костромского района Костромской области], новатор колхозного производства, председатель колхоза "12-й Октябрь" Костромского района … - МАКАРОВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Тамара Федоровна [родилась 31.7(13.8).1907, Петербург], русская советская актриса, народная артистка СССР (1950). Член КПСС с 1943. В 1930 окончила Ленинградский … - КУДЕЛЛИ ПРАСКОВЬЯ ФРАНЦЕВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Прасковья Францевна , деятель революционного движения в России, партийный публицист. Член Коммунистической партии с … - ЖЕМЧУГОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
(настоящая фамилия Ковалёва) Прасковья Ивановна , русская актриса, певица (сопрано). Крепостная графа Н. … - ВИШНЯКОВА ПРАСКОВЬЯ ИВАНОВНА в Большой советской энциклопедии, БСЭ:
Прасковья Ивановна , деятель революционного движения в России. Член Коммунистической …
Биография
Семья
Венчание состоялось 9 января 1684 года. Обряд венчания в соборной церкви совершал патриарх Иоаким с ключарем и тремя диаконами. «А на утро следующего дня, как велось это обыкновенно, царю и царице готовили мыльни разные, и ходил царь в мыльню, и по выходе из нее возлагали на него сорочку и порты, и платье иное, а прежнюю сорочку велено было сохранять постельничему. А как царица пошла в мыльню и с нею ближние жены, и осматривали её сорочку, а осмотря сорочку, показали сродственным женам немногим для того, что её девство в целости совершилось, и те сорочки, царскую и царицыну, и простыни, собрав вместе, сохраняли в тайное место» .
Её отец Александр Салтыков был переименован по случаю свадьбы в Федора и пожалован в бояре, правителем и воеводой города Киева . Это изменение имени подтверждает в своих записках Патрик Гордон . (Обычай менять отчество цариц на «Федоровна» связан с реликвией Романовых Федоровской иконой Божьей Матери). Пять лет у них не было детей, но как только появилось известие, что Прасковья забрюхатела, вдовствующая царица Наталья Кирилловна тоже женила своего сына Петра Алексеевича (поскольку наследник был желателен и Романовым-Нарышкиным). Невесту Петра Лопухину также звали Прасковьей (Илларионовной), но её имя сменили на «Евдокия Федоровна».
В браке, в особом тереме в Кремле, Прасковья и Иван прожили 12 лет, произведя на свет пятерых дочерей, и ни единого мальчика, что облегчило династическую ситуацию с приходом к единоличной власти Петра I.
Внешность её Семеновский (ссылаясь на портрет, хранившийся в московском Новоспасском монастыре), описывает так: «невеста Ивана была высока, стройна, полна; длинные волосы густыми косами ниспадали на круглые плечи; круглый подбородок, ямки на щеках, косички, красиво завитые на невысоком лбу - все это представляло личность интересную, веселую и очень миловидную» . Она неукоснительно соблюдала обрядовую сторону православия, была суеверна и плохо знала грамоту.
Вдова

Царская усадьба в Измайлове
После смерти мужа в 1696 году, скончавшегося в 30-летнем возрасте, вместе с 3 оставшимися в живых дочерьми поселилась в загородной царской резиденции Алексея Михайловича в селе Измайлове (по мнению Семеновского, оно не было отдано ей в собственность, она жила не на доходы, а на назначенный деверем оклад). Петр для управления хозяйством и для удовлетворения её нужд отдал в полное распоряжение Василия Алексеевича Юшкова и предоставил выбрать место жительства. Должность дворецкого, по-видимому, исполнял её родной брат Василий Федорович Салтыков, приставленный к ней Петром в 1690 году.
В документах XVIII века вдовствующую царицу продолжают именовать «Ее величество государыня царица Прасковея Федоровна» .
Отношения с Петром I
Де Бруин, писавший портреты её дочерей (не сохранились), оставил описание царицы и её дочерей :
«Она была довольно дородна, что, впрочем, нисколько не безобразило её, потому что она имела очень стройный стан. Можно даже сказать, что она была красива, добродушна от природы и обращения чрезвычайно привлекательного. Ей около тридцати лет. По всему этому её очень уважает его величество царевич Алексей Петрович, часто посещает её и трех молодых княжен, дочерей её, из коих старшая, Екатерина Ивановна, - двенадцати лет, вторая, Анна Ивановна,- десяти и младшая, Прасковья Ивановна, - восьми лет. Все они прекрасно сложены. Средняя белокура, имеет цвет лица чрезвычайно нежный и белый, остальные две - красивые смуглянки. Младшая отличалась особенною природною живостью, а все три вообще обходительностью и приветливостью очаровательною. Любезности, которые оказывали мне при этом дворе в продолжение всего времени, когда я работал там портреты, были необыкновенны. Каждое утро меня непременно угощали разными напитками и другими освежительными, часто также оставляли обедать, причем всегда подавалась и говядина, и рыба, несмотря на то что это было в великий пост, - внимательность, которой я изумлялся. В продолжение дня подавалось мне вдоволь вино и пиво. Одним словом, я не думаю, чтобы на свете был другой такой двор, как этот, в котором бы с частным человеком обращались с такой благосклонностью, о которой на всю жизнь мою сохраню я глубокую признательность».
Воспитанная на началах старинного дореформенного быта, Прасковья тем не менее сознавала необходимость преобразований, умела примеряться к обстоятельствам и уступала современному духу в воспитании своих дочерей, в препровождении времени, в забавах и развлечениях. Благодаря этому до смерти поддерживала хорошие отношения с деверем, императором Петром . Две дочери её были выданы императором замуж за иностранных принцев. Семевский писал об отношениях невестки и деверя:
«Веровала она в авторитет свояка-государя, его слово - закон, его мнение - свято. С какой доверенностью предоставляла она ему распоряжаться судьбой её дочерей, и он распорядился ими так, как этого требовали его планы и расчеты. Такую преданность, такое уважение к своей особе, такое послушание Петр находил в весьма немногих из своих теток, сестер и других женских лиц царской семьи, в признательность он был внимателен, любил и уважал Прасковью. Петр зачастую навещал невестку, отдыхал у нее со своею свитою, пировал в её теремах, шутил и балагурил» .
Когда во время расследования по делу царевича Алексея последний на допросе назвал её в числе своих сторонников: «Я ведал, что она ко мне добра гораздо, хотя и без большой конфиденции, чаял же к сему склону» , то Петр не обратил внимания на эти слова, оставив их без последствий из-за доверия, испытываемого им к Прасковье (и большого количества лжи Алексея).
Указывают однако, что царица едва знала грамоту, была полна суеверий, предрассудков и ханжества, а Василий Никитич Татищев говорил про её двор: «Гошпиталь уродов, ханжей и пустосвятов» . Из них наибольшим уважением царицы пользовался полупомешанный подьячий Тимофей Архипович, выдававший себя за святого и пророка. Некогда он занимался иконописанием, но потом бросил, стал «юродствовать миру» - и прожил при дворе Прасковьи Федоровны 28 лет.
В 1712 году, уже переехав в Петербург, она была посаженной матерью при бракосочетании императора с Екатериной I, а её дочери Прасковья и Екатерина - «ближайшими девицами».
Из письма Екатерины Алексеевны к царице Прасковье:
«Милостивая государыня, моя невестушка, Прасковья Федоровна, здравствуй на множество лет купно и с детками своими, моими дорогими племянницами, царевнами Екатериною Ивановною, Анною Ивановною, Прасковьею Ивановною.»
Прасковья заметно отличалась от других родственниц Петра, ведя себя с большим тактом и умением, и беспрекословно угождая всем своим фанабериям. Будучи религиозной, тем не менее, по первому царскому зову, облекалась в шутовской костюм и выступала со своими фрейлинами «в смехотворной процессии свадьбы князь-папы» (см. Всешутейший Собор). Она приезжала на все царские празднования-попойки (её даже приносили на носилках). Её родная сестра Настасья Ромодановская, по желанию царскому она постоянно разыгрывала роль древней русской царицы, облекалась в костюм старинного русского покроя, принимала с достодолжною важностью все смешные почести, ей воздаваемые.
Переезд в Петербург и дальнейшая жизнь
В 1708 году семья вдовствующей царицы, вместе с другой его роднёй по указу Петра перебралась жить в Санкт-Петербург. Царица Прасковья Федоровна получила от царя в дар дом в полную собственность на Петербургской стороне, на берегу Невы, близ Петровского домика. В 1710 году Петр выдал замуж Анну, а в 1716 - Екатерину. Вдовствующая царица часто наезжала обратно в любимое Измайлово.
Овдовевшая Анна Иоанновна осталась жить в Митаве и известно, что Петр хотел переселить к племяннице всю семью покойного брата, но этот план не осуществился - Прасковья Федоровна осталась в России. Однако из политических соображений царицу посылали на некоторое время «гостить» в Ригу. Прасковья Федоровна следила за житьем своей нелюбимой дочери Анны в Курляндии при помощи приставленного к ней своего брата, и часто устраивала дочери выволочки.
Здоровье её к концу жизни стало подводить, и Прасковья пыталась лечиться: была на Кончезерских водах в 1719 году, ездила в Олонец на «марциальные воды» в начале 1721 года, причем её провожала довольно большая свита на шестидесяти подводах. Царица пробыла здесь до 15 марта; была она на водах и в начале 1723 года, но воды не помогали: она постоянно страдала разными недугами.
Цитируемые Семевским письма бросают свет на её недомогания: «мокротная, каменная, подагра и её натуре таких болезней не снесть». Ей рано отказались служить ноги. Историк пишет: «она обрюзгла, опустилась, сделалась непомерно раздражительна, и под влиянием этих болезней являла иногда характер, как увидим ниже, в высшей степени зверский… Надо думать, что кроме лет, впрочем еще не преклонных, болезнь её развилась и от неумеренного употребления крепких напитков. Кто бы ни приезжал в привольное село Измайлово, либо в её дом в Петербурге, кто бы ни являлся к хлебосольной хозяйке, он редко уходил, не осушив нескольких стаканов крепчайшего вина, наливки или водки. Царица Прасковья всегда была так милостива, что сама подавала заветный напиток, сама же и опорожняла стакан ради доброго гостя. Даже выезжая куда-нибудь, царица приказывала брать с собой несколько бутылок вина… Нельзя слишком обвинять в этой слабости старушку; она пила так же, как пили все, или почти все аристократки петровского двора».
С 1720 года больная царица Прасковья целыми месяцами лежала в постели. Душевное расстройство ей причиняли несчастливая жизнь Анны и Екатерины, третья дочь, её тезка, оставалась при матери и тоже много болела. В августе 1722 года Екатерина приехала в Россию с дочерью, и царица впервые увидела свою 4-летнюю внучку Екатерину-Христину (Анну Леопольдовну).
Дело Деревнина
Говоря о зверском характере Прасковьи, Семевский имеет в виду дело подьячия Василия Деревнина в октябре 1722 года: он служил у царицы, похитил её зашифрованное письмо к её фавориту Юшкову, и был долго преследуем ею и её слугами посредством московской полиции и много пытан, чтобы добиться его возвращения. Была арестована и избита вся его семья, а сам он был обвинен в растрате. Затем дело забрала Тайная канцелярия , наконец арестовавшая Деревнина. Обезножевшая царица была принесена к нему в камеру по собственному приказу и избила его палкой в ярости. Она хотела забрать его к себе, но сотрудники Канцелярии не отдавали арестованного, тогда она приказала жечь его лицо огнем свечи, опять его бить. Наконец, голову его облили водкой и подожгли. В итоге прибывший Ягужинский едва успел застать Деревнина живым и увезти его в свой дом. Спустя несколько месяцев Петр разобрал это дело: прислужники царицы - добровольные палачи были нещадно биты батогами, Юшков был сослан в Нижний Новгород, однако собственно разбор дела тянулся очень медленно, потому что «высший суд» тайной канцелярии состоял из свойственников и друзей царицы . (Спустя два года после этого несчастия и год после смерти царицы дело было закрыто и положено в архив, но что случилось с Деревниным - неизвестно: либо отпущен, либо отправлен в Сибирь на «государеву службу»).
Смерть и погребение
Тем временем, пока тянулось дело, весь июль и начало августа 1723 года царица провела на яхте, участвуя в морском путешествии всего двора в Ревель и Ригу. Участвовала она и в других увеселениях. 24 сентября отпраздновала 30-летие своей дочери Прасковьи, и с той поры начала сдавать. 8 октября навестил её государь и пробыл у неё более двух часов. Перед смертью Прасковья написала письмо с прощением к своей дочери Анне, которую перед этим за её поступки практически прокляла. Отходила она несколько дней.
В (13) 26 октября 1723 года после сильнейшего наводнения, Прасковья Федоровна умерла в день празднования Иверской иконы Божией Матери , на следующий же день после своего 60-летия, пережив на 27 лет супруга. Фридрих-Вильгельм Берхгольц описывает в своем дневнике:

Благовещенская церковь
«13-го, поутру, капитан Бергер уведомил меня, что вдовствующая царица Прасковия Федоровна Салтыкова, супруга бывшего царя Ивана Алексеевича, единородного брата нынешнего императора, за полчаса перед тем тихо скончалась. Она еще в то же утро приказывала подать себе зеркало и смотрелась в него. Думают, что по случаю этой кончины наложен будет по крайней мере полугодичный траур. Комедия, которую собирались сегодня играть в присутствии всего двора во вновь построенном для труппы доме, вероятно не состоится. (…) 17-го его высочество был с изъявлением соболезнования у герцогини Мекленбургской, которая рассказывала ему, что покойная царица, умирая, поручала её, герцогиню, и теперь больную сестру её Прасковию материнскому попечению императрицы» .
Вдову Иоанна V торжественно похоронили в праздник Казанской иконы Божией Матери (22 октября) 4 ноября в Александро-Невском монастыре Петербурга под полом Благовещенской церкви перед алтарем. За похоронными церемониями следил сам Петр I, это были первые пышные и торжественные «царские похороны» в новой столице . Берхгольц также оставил описание приготовлений - прощания с телом и собственно похорон .
Позднее в общем склепе с нею были погребены: дочь Екатерина Иоанновна, скончавшаяся 24 июня (7 июля) 1733 года, внучка Анна Леопольдовна (погребена 1 (14) марта 1746 года), сестра княгиня Настасья Ромодановская, скончавшаяся второго (15) сентября 1736 года .
Дети
В браке имела 5 дочерей:
- Мария Ивановна (21 (31) марта 1689 - 13 (23) февраля 1692) - умерла во младенчестве.
- Феодосия Ивановна (4.06.1690-1690) - умерла во младенчестве.
- Екатерина Иоанновна (29.10.1691-1733) - в замужестве герцогиня Мекленбург-Шверинская, мать Анны Леопольдовны . Замужем с 1716 года, оставила мужа и вернулась в Россию в 1722.
- Императрица Анна Иоанновна (28 января 1693-1740), бездетна. Замужем с 1710.
- Прасковья Иоанновна (Параскева) (12.05.1694-1731) - морганатическая супруга Ивана Ильича Дмитриева-Мамонова (тайный брак после смерти матери).
Имущество
С 1714 до своей смерти владела имением Ивановское (Ивановский дворец, Старо-Ивановское село, Ново-Ивановское село) к западу от Лигова , названным в честь её супруга. После её смерти оно ненадолго отошло к её дочерям Анне и Екатерине . Деревянный Ивановский дворец был просторным (имел 9 парадных комнат - светлиц). Последнее его изображение датируется 1777 годом.
Кроме царского оклада, царица Прасковья Федоровна получала ещё доходы со своих вотчин деньгами и запасами. Вотчины эти находились в разных волостях Новгородского, Псковского и Копорского уездов, также на Ставропольской сотне, так что во владении её находилось 2477 посадских и крестьянских дворов. Известен «Наказ» царицы своему дворовому человеку Ивану Дружинину относительно её земель в Новгородском уезде. В нём она повелевает о недержании «под смертной казнью» в её волостях беглых солдат и пришлых всяких людей, которых повелено было - «выбивать вон», «также вином и табаком чтобы крестьяне не торговали и корчмы никакой не держали б, и с воровскими людьми не знались», царица Прасковья напоминает: «а вам, крестьянам, конечно, прикащика во всем слушать и расправу меж вами ему, прикащику, чинить» .
Известна митра 1682 года, которую пожертвовала царица в Соловецкий монастырь .
Литература
- Семевский М. И. Царица Прасковья. 1664-1723: Очерк из русской истории XVIII века. М., 1989. Первое издание - 1883.
- Царица Прасковья. Материалы / Сообщ. П.И. Баранов // Русская старина, 1872. – Т. 6. - № 11. – С. 563-567.
Примечания
- Долгоруков П. В. Российская Родословная книга. - СПб., 1856. - Ч.3. - С.54.
- М. И. Семевский. Царица Прасковья
- В. Е. Источники по русско-скандинавским отношениям XVI-XVII веков // Рукописные источники по истории Западной Европы в Архиве ЛОИИ СССР. Археографический сборник, 1982, 155
- Де ла Невилль. Записки о Московии // Комментарии
- Де ла Невилль. Записки о Московии // Комментарии
- Патрик Гордон. Дневник
- Глебов Степан Богданович
- З. Короткова. Она ко мне добра гораздо // Наука и жизнь
- Благочестивая царица Прасковья Феодоровна
- К. де Бруин. Путешествия в Московию
- «Двор Царицы Прасковьи Феодоровны от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов. Междо многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумазбродной подьячей, котораго за святаго и пророка суеверны почитали… Как я отъезжал 1722-го другой раз в Сибирь к горным заводам и приехал к Царице просчение принять, она, жалуя меня, спросила онаго шалуна, скоро ли я возврасчусь. Он, как меня не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: „Он руды много накопает, да и самого закопают “»
- Фридрих-Вильгельм Бурхгольц. Дневник
- «…провели нас в большую залу, где царица стояла в открытом гробу на катафалке (Castrum doloris), устроенном как парадная постель. Над нею возвышался большой балдахин из фиолетового бархата, украшенный галунами и бахромою, а над гробом, на той части балдахина, которая спускалась в головах, вышит был золотом двуглавый орел на фоне, состоящем как бы из горностаевого меха. На внутренней её стороне стоял вышитый же именной шифр покойной с императорскою короною, скипетром и державою наверху. С правой стороны на красной бархатной подушке лежала царская корона, украшенная довольно богато драгоценными камнями и сделанная, сколько позволила краткость времени, довольно изящно. Возле нее стояло желтое государственное знамя. Говорили, что тут же будут положены также скипетр и Держава; но они не были еще готовы. Все украшения проектировал граф Санти, состоявший прежде при Гессен-Гомбургских принцах, а все остальное устраивалось по распоряжению генералов Аллара и Ласси. Гроб, стоявший на возвышении о нескольких ступенях, обит был фиолетовым бархатом и широким галуном, а крыша его сверху имела еще крест из белой обьяри. Из такой же обьяри были и платье на царице и покров, спускавшийся с гроба вниз до самого катафалка, который также обтянут был бархатом. По обеим сторонам гроба стояло 12 больших зажженных свечей из белого воска; но кроме того комната была украшена еще тремя люстрами и многими стенными подсвечниками, в которых во всех горели свечи из белого же воску. Позади 12 больших свечей стояли 12 капитанов в черных кафтанах, длинных мантиях и с черным флером на шляпах. Они охраняли тело и все имели в руках нечто вроде вызолоченных алебард, на которые также навязаны были длинные концы черного флера вместе с изображениями имени и герба покойной царицы, написанными на маленьких щитах. Даже гренадеры, стоявшие у дверей вне залы, имели на ружьях длинный черный флер, спускавшийся от штыков. В головах покойницы с обеих сторон стояли два священнослужителя, которые попеременно пели, производя очень жалобную музыку. Наконец, вся комната была кругом обита черной байкой, а на верху стен, по карнизу, шла фалбола, собранная из белого и черного флера, которая делала хороший эффект. Кроме того, комната эта украшалась разными аллегориями.»
- «Свечи они держали во время панихиды, продолжавшейся с четверть часа. По окончании её началась процессия. Было около 4 часов, когда тело вынесли из дому, и тут несколько пущенных ракет подали сигнал, по которому должен был начаться звон во все колокола (стрельбы, или пальбы из пушек, вовсе не было). Процессия двигалась в следующем порядке. Шествие открывал поручик гвардии с 15 или 18 унтер-офицерами, имевшими длинный флер на своих тесаках, которые они держали на плечах. За ними шел первый маршал, Румянцев, с своим маршальским жезлом, в сопровождении всех гражданских и военных чиновников, не имевших в церемонии особых должностей. Они шли по три и по четыре в ряд по чинам, а именно младшие впереди, старшие позади, ближе к телу. Затем должны были идти иностранные министры; но из них, во избежание споров о местах, не явился никто, кроме голландского резидента, который шел вместе с нами; однако ж и он скоро воротился и уехал домой. Австрийский секретарь посольства приезжал в дом, но скоро также сказался больным и уехал еще прежде, нежели мы вышли оттуда. За отсутствием иностранных министров вслед за гражданскими и военными чинами шел его высочество между обоими Гессен-Гомбургскими принцами, тотчас позади двух генерал-лейтенантов, Ягужинского и Миниха, и двух вице-адмиралов, Сиверса и Гордона, имеющих генерал-лейтенантские чины. Все четверо они были последними в группе вышеупомянутых военных и гражданских чиновников. Позади его высочества шла вся его свита. За нами следовали все певчие, а за ними шло духовенство в своем церковном облачении и по старшинству; епископы и архиепископы в своих великолепных круглых митрах и с посохами в руках были последними. Все они держали белые восковые свечи. После духовенства шел другой маршал, Мамонов, также с маршальским жезлом. За ним сенатор граф Матвеев на красной бархатной подушке нес царскую корону. Прочих регалий вовсе не несли; не было даже и желтого государственного знамени, которое в комнате однако ж стояло и для несения которого был уже назначен полковник. Затем шли двенадцать полковников в качестве носильщиков (Leichentraeger), вслед за которыми везли тело на открытой обтянутой черным колеснице, на которой оно стояло очень высоко для большего парада. Описанный уже мною гроб покрыт был очень большим бархатным, обшитым серебряными галунами покровом, который спускался до самой земли. Колесницу везли б больших лошадей, с головы до ног завешанных черными байковыми попонами и ведомых под уздцы. Над гробом 6 майоров несли фиолетовый бархатный балдахин с серебряными галунами и шитьем. Кроме того, по обеим сторонам тела шли еще 12 капитанов с своими позолоченными алебардами, обвитыми длинным флером, и 12 поручиков с упомянутыми выше большими белыми восковыми свечами. Непосредственно за гробом шел первый главный маршал, Аллар, с своим большим жезлом, а затем следовал в качестве траурного (Trauermann) император, которого вели великий адмирал Апраксин и князь Меншиков; позади их шли еще некоторые лица. После того шел другой главный маршал, именно генерал-лейтенант Ласси, за которым следовали дамы: сперва герцогиня Мекленбургская в глубочайшем трауре и с совершенно закрытым лицом; её вели под руки обер-полицеймейстер и гвардии майор Ушаков, а шлейф её несли четыре прапорщика гвардии; потом принцесса Прасковия, также в глубочайшем трауре; её вели контр-адмирал Сенявин и генерал-адъютант Нарышкин, а шлейф несли четыре молодых дворянина и унтер-офицера гвардии. За ними шли еще две незнакомые мне дамы с закрытыми лицами и потом уж императрица, которую вели сенатор Толстой и новый сенатор Долгорукий. Шлейф её несли два камер-юнкера. Она также была в глубоком трауре и с закрытым лицом. Её величество сопровождали все прочие дамы в глубоком трауре и с закрытыми лицами. Начиная от колесницы до самого конца процессии шли один за другим человек сорок унтер-офицеров гвардии, и процессия как открывалась, так и заключалась опять поручиком с 18 или 20 унтер-офицерами. От начала её до конца по обеим сторонам шли, очень близко один от другого, солдаты с зажженными факелами, и их было человек с лишком сто. В этом порядке вся процессия подвигалась пешком от дома покойной царицы до Александро-Невского монастыря, до которого оттуда более трех верст или половины немецкой мили. Принцесса Прасковия, чувствуя большую слабость, не могла долго идти, а потому еще недалеко от дома села уж в свою карету, которая ехала позади; но герцогиня прошла довольно много и когда наконец также села в карету, императрица и все дамы тотчас же последовали её примеру и сели в свои кареты, следовавшие за процессией. Между тем мужчины должны были всю дорогу идти пешком, при чем мы не только страшно мерзли (потому что подвигались вперед очень медленно и часто останавливаясь), но и немало страдали от самой дороги, которая, всегда очень грязная, в последнее время сильно обледенела. Надобно было принимать всевозможные предосторожности, чтоб не упасть. Младшая принцесса с маленьким великим князем и старшие императорские принцессы сидели все время в каретах. В 6 часов мы достигли наконец до монастыря после шествия, продолжавшегося с лишком два часа. Процессия была встречена перед монастырем всеми его монахами и духовенством, перед которыми несли на высоких шестах две иконы. На монастырском дворе тело сняли с колесницы, и полковники торжественно внесли его в церковь. Все факельщики выстроились в ряды на этом дворе, а унтер-офицеры стали перед церковью. Гроб поставлен был против алтаря на возвышении о 4 или 5 ступенях, после чего полковники опять сняли с него крышку. Затем духовенство приступило к обыкновенной похоронной церемонии с пением, каждением и молитвами, а по прошествии некоторого времени удалилось в царские двери. После того между алтарем и покойницей поставлен был небольшой налой, к которому подошел один молодой священнослужитель и начал говорить похоронную проповедь, продолжавшуюся почти целый час. По окончании её духовенство вышло опять из царских дверей, и тут архиепископ Новгородский прочел отпущение (den Pasz), которое потом положил в гроб, но не в руку усопшей, как это обыкновенно делается. В заключение все духовные подошли к гробу и один за другим целовали руку покойницы; за ними обе огорченные принцессы взведены были на возвышение и в последний раз целовали руку своей матери. Они громко рыдали. После них подошла императрица и поцеловала покойную в рот. За нею подходили все дамы, а потом все мужчины, не исключая даже и певчих, и целовали умершей руку. После всех поцеловал её император. Тогда, по непременному желанию покойной царицы, ей положен был на лицо портрет её супруга, зашитый в белую обьярь, и гроб накрыли крышкою. Его снова поставили на носилки и отнесли с церемониею в часовню, которая хотя и готова уже в новом здании монастыря, но еще не освящена. Там перед алтарем его опустили в могилу. Из монастыря все присутствовавшие, уже без всякой процессии, отправились опять в дом покойной, куда были приглашены на обед. Император встал из-за стола уже в 11 часов и простился с герцогиней и принцессой Прасковией; после чего и его высочество последовал его примеру».
Ошибка Lua в Модуль:Wikidata на строке 170: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Царица Прасковья Фёдоровна (Прасковия Феодоровна, Параскева Феодоровна ), урождённая Салтыкова (12 октября - 13 октября ) - русская царица, супруга царя Ивана V (с 1684 года), мать императрицы Анны Иоанновны .
Биография
Семья
Её отец Александр Салтыков был переименован по случаю свадьбы в Фёдора и пожалован в бояре, правителем и воеводой города Киева . Это изменение имени подтверждает в своих записках Патрик Гордон . (Обычай менять отчество цариц на «Федоровна» связан с реликвией Романовых Федоровской иконой Божьей Матери). Пять лет у них не было детей, но как только появилось известие, что Прасковья забрюхатела, вдовствующая царица Наталья Кирилловна тоже женила своего сына Петра Алексеевича (поскольку наследник был желателен и Романовым-Нарышкиным). Невесту Петра Лопухину также звали Прасковьей (Илларионовной), но её имя сменили на «Евдокия Федоровна».
В браке, в особом тереме в Кремле, Прасковья и Иван прожили 12 лет, произведя на свет пятерых дочерей, и ни единого мальчика, что облегчило династическую ситуацию с приходом к единоличной власти Петра I.
Вдова
После смерти мужа в 1696 году, скончавшегося в 30-летнем возрасте, вместе с 3 оставшимися в живых дочерьми поселилась в загородной царской резиденции Алексея Михайловича в селе Измайлове (по мнению Семевского, оно не было отдано ей в собственность, она жила не на доходы, а на назначенный деверем оклад). Петр для управления хозяйством и для удовлетворения её нужд отдал в полное распоряжение Василия Алексеевича Юшкова и предоставил выбрать место жительства. Должность дворецкого, по-видимому, исполнял её родной брат Василий Федорович Салтыков , приставленный к ней Петром в 1690 году.
В документах XVIII века вдовствующую царицу продолжают именовать «Её величество государыня царица Прасковея Федоровна» .
Отношения с Петром I
«Она была довольно дородна, что, впрочем, нисколько не безобразило её, потому что она имела очень стройный стан. Можно даже сказать, что она была красива, добродушна от природы и обращения чрезвычайно привлекательного. Ей около тридцати лет. По всему этому её очень уважает его величество царевич Алексей Петрович , часто посещает её и трех молодых княжен, дочерей её, из коих старшая, Екатерина Ивановна, - двенадцати лет, вторая, Анна Ивановна,- десяти и младшая, Прасковья Ивановна, - восьми лет. Все они прекрасно сложены. Средняя белокура, имеет цвет лица чрезвычайно нежный и белый, остальные две - красивые смуглянки. Младшая отличалась особенною природною живостью, а все три вообще обходительностью и приветливостью очаровательною. Любезности, которые оказывали мне при этом дворе в продолжение всего времени, когда я работал там портреты, были необыкновенны. Каждое утро меня непременно угощали разными напитками и другими освежительными, часто также оставляли обедать, причем всегда подавалась и говядина, и рыба, несмотря на то что это было в великий пост, - внимательность, которой я изумлялся. В продолжение дня подавалось мне вдоволь вино и пиво. Одним словом, я не думаю, чтобы на свете был другой такой двор, как этот, в котором бы с частным человеком обращались с такой благосклонностью, о которой на всю жизнь мою сохраню я глубокую признательность».
Catherine Ioannovna, duchess of Mecklenburg.jpg
Екатерина
Anna Ioannovna (Kuskovo).jpg
Nikitin Praskovia.jpg
Прасковья
Воспитанная на началах старинного дореформенного быта, Прасковья тем не менее сознавала необходимость преобразований, умела примеряться к обстоятельствам и уступала современному духу в воспитании своих дочерей, в препровождении времени, в забавах и развлечениях. Благодаря этому до смерти поддерживала хорошие отношения с деверем, императором Петром . Две дочери её были выданы императором замуж за иностранных принцев. Семевский писал об отношениях невестки и деверя:
«Веровала она в авторитет свояка-государя, его слово - закон, его мнение - свято. С какой доверенностью предоставляла она ему распоряжаться судьбой её дочерей, и он распорядился ими так, как этого требовали его планы и расчеты. Такую преданность, такое уважение к своей особе, такое послушание Петр находил в весьма немногих из своих теток, сестер и других женских лиц царской семьи, в признательность он был внимателен, любил и уважал Прасковью. Петр зачастую навещал невестку, отдыхал у неё со своею свитою, пировал в её теремах, шутил и балагурил» .
Когда во время расследования по делу царевича Алексея последний на допросе назвал её в числе своих сторонников: «Я ведал, что она ко мне добра гораздо, хотя и без большой конфиденции, чаял же к сему склону» , то Петр не обратил внимания на эти слова, оставив их без последствий из-за доверия, испытываемого им к Прасковье (и большого количества лжи Алексея).
Указывают однако, что царица едва знала грамоту, была полна суеверий, предрассудков и ханжества, а Василий Никитич Татищев говорил про её двор: «Гошпиталь уродов, ханжей и пустосвятов» . Из них наибольшим уважением царицы пользовался полупомешанный подьячий Тимофей Архипович, выдававший себя за святого и пророка. Некогда он занимался иконописанием, но потом бросил, стал «юродствовать миру» - и прожил при дворе Прасковьи Федоровны 28 лет.
В 1712 году, уже переехав в Петербург, она была посаженной матерью при бракосочетании императора с Екатериной I, а её дочери Прасковья и Екатерина - «ближайшими девицами».
Из письма Екатерины Алексеевны к царице Прасковье:«Милостивая государыня, моя невестушка, Прасковья Федоровна, здравствуй на множество лет купно и с детками своими, моими дорогими племянницами, царевнами Екатериною Ивановною, Анною Ивановною, Прасковьею Ивановною.»
Прасковья заметно отличалась от других родственниц Петра, ведя себя с большим тактом и умением, и беспрекословно угождая всем своим фанабериям. Будучи религиозной, тем не менее, по первому царскому зову, облекалась в шутовской костюм и выступала со своими фрейлинами «в смехотворной процессии свадьбы князь-папы» (см. Всешутейший Собор). Она приезжала на все царские празднования-попойки (её даже приносили на носилках). Её родная сестра, княгиня Настасья Ромодановская, по желанию царскому постоянно разыгрывала роль древней русской царицы, облекалась в костюм старинного русского покроя, принимала с достодолжною важностью все смешные почести, ей воздаваемые.
Фаворитом царицы был управляющий Юшков, Василий Алексеевич .
Переезд в Петербург и дальнейшая жизнь
В 1708 году семья вдовствующей царицы, вместе с другой его роднёй по указу Петра перебралась жить в Санкт-Петербург. Царица Прасковья Федоровна получила от царя в дар дом в полную собственность на Петербургской стороне, на берегу Невы, близ Петровского домика и 200-саженный участок на Петергофской дороге (село Иоанновское). В 1710 году Петр выдал замуж Анну, а в 1716 - Екатерину. Вдовствующая царица часто наезжала обратно в любимое Измайлово.
Овдовевшая Анна Иоанновна осталась жить в Митаве и известно, что Петр хотел переселить к племяннице всю семью покойного брата, но этот план не осуществился - Прасковья Федоровна осталась в России. Однако из политических соображений царицу посылали на некоторое время «гостить» в Ригу. Прасковья Федоровна следила за житьем своей нелюбимой дочери Анны в Курляндии при помощи приставленного к ней своего брата, и часто устраивала дочери выволочки.
Здоровье её к концу жизни стало подводить, и Прасковья пыталась лечиться: была на Кончезерских водах в 1719 году, ездила в Олонец на «марциальные воды» в начале 1721 года, причем её провожала довольно большая свита на шестидесяти подводах. Царица пробыла здесь до 15 марта; была она на водах и в начале 1723 года, но воды не помогали: она постоянно страдала разными недугами.
Цитируемые Семевским письма бросают свет на её недомогания: «мокротная, каменная, подагра и её натуре таких болезней не снесть». Ей рано отказались служить ноги. Историк пишет: «она обрюзгла, опустилась, сделалась непомерно раздражительна, и под влиянием этих болезней являла иногда характер, как увидим ниже, в высшей степени зверский… Надо думать, что кроме лет, впрочем ещё не преклонных, болезнь её развилась и от неумеренного употребления крепких напитков. Кто бы ни приезжал в привольное село Измайлово, либо в её дом в Петербурге, кто бы ни являлся к хлебосольной хозяйке, он редко уходил, не осушив нескольких стаканов крепчайшего вина, наливки или водки. Царица Прасковья всегда была так милостива, что сама подавала заветный напиток, сама же и опорожняла стакан ради доброго гостя. Даже выезжая куда-нибудь, царица приказывала брать с собой несколько бутылок вина… Нельзя слишком обвинять в этой слабости старушку; она пила так же, как пили все, или почти все аристократки петровского двора».
С 1720 года больная царица Прасковья целыми месяцами лежала в постели. Душевное расстройство ей причиняли несчастливая жизнь Анны и Екатерины, третья дочь, её тезка, оставалась при матери и тоже много болела. В августе 1722 года Екатерина приехала в Россию с дочерью, и царица впервые увидела свою 4-летнюю внучку Екатерину-Христину (Анну Леопольдовну).
Дело Деревнина
Говоря о зверском характере Прасковьи, Семевский имеет в виду дело подьячия Василия Деревнина в октябре 1722 года: он служил у царицы, похитил её зашифрованное письмо к её фавориту и управляющему Василию Алексеевичу Юшкову, и был долго преследуем ею и её слугами посредством московской полиции и много пытан, чтобы добиться его возвращения. Была арестована и избита вся его семья, а сам он был обвинен в растрате. Затем дело забрала Тайная канцелярия , наконец арестовавшая Деревнина. Обезножевшая царица была принесена к нему в камеру по собственному приказу и избила его палкой в ярости. Она хотела забрать его к себе, но сотрудники Канцелярии не отдавали арестованного, тогда она приказала жечь его лицо огнём свечи, опять его бить. Наконец, голову его облили водкой и подожгли. В итоге прибывший Ягужинский едва успел застать Деревнина живым и увезти его в свой дом. Спустя несколько месяцев Петр разобрал это дело: прислужники царицы - добровольные палачи были нещадно биты батогами, Юшков был сослан в Нижний Новгород, однако собственно разбор дела тянулся очень медленно, потому что «высший суд» тайной канцелярии состоял из свойственников и друзей царицы . (Спустя два года после этого несчастия и год после смерти царицы дело было закрыто и положено в архив, но что случилось с Деревниным - неизвестно: либо отпущен, либо отправлен в Сибирь на «государеву службу»).
Смерть и погребение
Тем временем, пока тянулось дело, весь июль и начало августа 1723 года царица провела на яхте, участвуя в морском путешествии всего двора в Ревель и Ригу. Участвовала она и в других увеселениях. 24 сентября отпраздновала 30-летие своей дочери Прасковьи, и с той поры начала сдавать. 8 октября навестил её государь и пробыл у неё более двух часов. Перед смертью Прасковья написала письмо с прощением к своей дочери Анне, которую перед этим за её поступки практически прокляла. Отходила она несколько дней.
В (13) 24 октября 1723 года после сильнейшего наводнения, Прасковья Федоровна умерла в день празднования Иверской иконы Божией Матери , на следующий же день после своего 60-летия, пережив на 27 лет супруга. Фридрих-Вильгельм Берхгольц описывает в своем дневнике:
«13-го, поутру, капитан Бергер уведомил меня, что вдовствующая царица Прасковия Федоровна Салтыкова, супруга бывшего царя Ивана Алексеевича, единородного брата нынешнего императора, за полчаса перед тем тихо скончалась. Она ещё в то же утро приказывала подать себе зеркало и смотрелась в него. Думают, что по случаю этой кончины наложен будет по крайней мере полугодичный траур. Комедия, которую собирались сегодня играть в присутствии всего двора во вновь построенном для труппы доме, вероятно не состоится. (…) 17-го его высочество был с изъявлением соболезнования у герцогини Мекленбургской, которая рассказывала ему, что покойная царица, умирая, поручала её, герцогиню, и теперь больную сестру её Прасковию материнскому попечению императрицы» .
Вдову Иоанна V торжественно похоронили в праздник Казанской иконы Божией Матери (22 октября) 2 ноября в Александро-Невском монастыре Петербурга под полом Благовещенской церкви перед алтарем. За похоронными церемониями следил сам Петр I, это были первые пышные и торжественные «царские похороны» в новой столице . Берхгольц также оставил описание приготовлений - прощания с телом и собственно похорон .
Позднее в общем склепе с нею были погребены: дочь Екатерина Иоанновна , скончавшаяся 24 июня (5 июля) 1733 года, внучка Анна Леопольдовна (погребена 1 (12) марта 1746 года), сестра княгиня Настасья Ромодановская, скончавшаяся 2 (13) сентября 1736 года .
Дети
В браке имела 5 дочерей:
Имущество
С 1714 до своей смерти владела имением Иоановским (Ивановский дворец, Старо-Ивановское село, Ново-Ивановское село) к западу от Лигова , названным в честь её супруга. После смерти царицы имение 10 лет принадлежало её дочерям Прасковье и Екатерине . Деревянный Ивановский дворец был просторным (имел 9 парадных комнат - светлиц). Последнее его изображение датируется 1777 годом.
Кроме царского оклада, царица Прасковья Федоровна получала ещё доходы со своих вотчин деньгами и запасами. Вотчины эти находились в разных волостях Новгородского, Псковского и Копорского уездов, также на Ставропольской сотне, так что во владении её находилось 2477 посадских и крестьянских дворов. Известен «Наказ» царицы своему дворовому человеку Ивану Дружинину относительно её земель в Новгородском уезде. В нём она повелевает о недержании «под смертной казнью» в её волостях беглых солдат и пришлых всяких людей, которых повелено было - «выбивать вон», «также вином и табаком чтобы крестьяне не торговали и корчмы никакой не держали б, и с воровскими людьми не знались», царица Прасковья напоминает: «а вам, крестьянам, конечно, прикащика во всем слушать и расправу меж вами ему, прикащику, чинить» .
Известна митра 1682 года, которую пожертвовала царица в Соловецкий монастырь .
Напишите отзыв о статье "Салтыкова, Прасковья Фёдоровна"
Примечания
- Татищев. .
- Долгоруков П. В. Российская Родословная книга. - СПб., 1856. - Ч.3. - С.54.
- М. И. Семевский. Царица Прасковья
- В. Е. Источники по русско-скандинавским отношениям XVI-XVII веков // Рукописные источники по истории Западной Европы в Архиве ЛОИИ СССР. Археографический сборник, 1982, 155
- Де ла Невилль .
- «Двор Царицы Прасковьи Феодоровны от набожности был госпиталь на уродов, юродов, ханжей и шалунов. Междо многими такими был знатен Тимофей Архипович, сумазбродной подьячей, котораго за святаго и пророка суеверны почитали… Как я отъезжал 1722-го другой раз в Сибирь к горным заводам и приехал к Царице просчение принять, она, жалуя меня, спросила онаго шалуна, скоро ли я возврасчусь. Он, как меня не любил за то, что я не был суеверен и руки его не целовал, сказал: „Он руды много накопает, да и самого закопают “»
- «…провели нас в большую залу, где царица стояла в открытом гробу на катафалке (Castrum doloris), устроенном как парадная постель. Над нею возвышался большой балдахин из фиолетового бархата, украшенный галунами и бахромою, а над гробом, на той части балдахина, которая спускалась в головах, вышит был золотом двуглавый орел на фоне, состоящем как бы из горностаевого меха. На внутренней её стороне стоял вышитый же именной шифр покойной с императорскою короною, скипетром и державою наверху. С правой стороны на красной бархатной подушке лежала царская корона, украшенная довольно богато драгоценными камнями и сделанная, сколько позволила краткость времени, довольно изящно. Возле неё стояло жёлтое государственное знамя. Говорили, что тут же будут положены также скипетр и Держава; но они не были ещё готовы. Все украшения проектировал граф Санти, состоявший прежде при Гессен-Гомбургских принцах, а все остальное устраивалось по распоряжению генералов Аллара и Ласси. Гроб, стоявший на возвышении о нескольких ступенях, обит был фиолетовым бархатом и широким галуном, а крыша его сверху имела ещё крест из белой обьяри. Из такой же обьяри были и платье на царице и покров, спускавшийся с гроба вниз до самого катафалка, который также обтянут был бархатом. По обеим сторонам гроба стояло 12 больших зажженных свечей из белого воска; но кроме того комната была украшена ещё тремя люстрами и многими стенными подсвечниками, в которых во всех горели свечи из белого же воску. Позади 12 больших свечей стояли 12 капитанов в черных кафтанах, длинных мантиях и с чёрным флером на шляпах. Они охраняли тело и все имели в руках нечто вроде вызолоченных алебард, на которые также навязаны были длинные концы чёрного флера вместе с изображениями имени и герба покойной царицы, написанными на маленьких щитах. Даже гренадеры, стоявшие у дверей вне залы, имели на ружьях длинный чёрный флер, спускавшийся от штыков. В головах покойницы с обеих сторон стояли два священнослужителя, которые попеременно пели, производя очень жалобную музыку. Наконец, вся комната была кругом обита чёрной байкой, а на верху стен, по карнизу, шла фалбола, собранная из белого и чёрного флера, которая делала хороший эффект. Кроме того, комната эта украшалась разными аллегориями.»
- «Свечи они держали во время панихиды, продолжавшейся с четверть часа. По окончании её началась процессия. Было около 4 часов, когда тело вынесли из дому, и тут несколько пущенных ракет подали сигнал, по которому должен был начаться звон во все колокола (стрельбы, или пальбы из пушек, вовсе не было). Процессия двигалась в следующем порядке. Шествие открывал поручик гвардии с 15 или 18 унтер-офицерами, имевшими длинный флер на своих тесаках, которые они держали на плечах. За ними шел первый маршал, Румянцев, с своим маршальским жезлом, в сопровождении всех гражданских и военных чиновников, не имевших в церемонии особых должностей. Они шли по три и по четыре в ряд по чинам, а именно младшие впереди, старшие позади, ближе к телу. Затем должны были идти иностранные министры; но из них, во избежание споров о местах, не явился никто, кроме голландского резидента, который шел вместе с нами; однако ж и он скоро воротился и уехал домой. Австрийский секретарь посольства приезжал в дом, но скоро также сказался больным и уехал ещё прежде, нежели мы вышли оттуда. За отсутствием иностранных министров вслед за гражданскими и военными чинами шел его высочество между обоими Гессен-Гомбургскими принцами, тотчас позади двух генерал-лейтенантов, Ягужинского и Миниха, и двух вице-адмиралов, Сиверса и Гордона, имеющих генерал-лейтенантские чины. Все четверо они были последними в группе вышеупомянутых военных и гражданских чиновников. Позади его высочества шла вся его свита. За нами следовали все певчие, а за ними шло духовенство в своем церковном облачении и по старшинству; епископы и архиепископы в своих великолепных круглых митрах и с посохами в руках были последними. Все они держали белые восковые свечи. После духовенства шел другой маршал, Мамонов, также с маршальским жезлом. За ним сенатор граф Матвеев на красной бархатной подушке нес царскую корону. Прочих регалий вовсе не несли; не было даже и жёлтого государственного знамени, которое в комнате однако ж стояло и для несения которого был уже назначен полковник. Затем шли двенадцать полковников в качестве носильщиков (Leichentraeger), вслед за которыми везли тело на открытой обтянутой чёрным колеснице, на которой оно стояло очень высоко для большего парада. Описанный уже мною гроб покрыт был очень большим бархатным, обшитым серебряными галунами покровом, который спускался до самой земли. Колесницу везли б больших лошадей, с головы до ног завешанных черными байковыми попонами и ведомых под уздцы. Над гробом 6 майоров несли фиолетовый бархатный балдахин с серебряными галунами и шитьем. Кроме того, по обеим сторонам тела шли ещё 12 капитанов с своими позолоченными алебардами, обвитыми длинным флером, и 12 поручиков с упомянутыми выше большими белыми восковыми свечами. Непосредственно за гробом шел первый главный маршал, Аллар, с своим большим жезлом, а затем следовал в качестве траурного (Trauermann) император, которого вели великий адмирал Апраксин и князь Меншиков; позади их шли ещё некоторые лица. После того шел другой главный маршал, именно генерал-лейтенант Ласси, за которым следовали дамы: сперва герцогиня Мекленбургская в глубочайшем трауре и с совершенно закрытым лицом; её вели под руки обер-полицеймейстер и гвардии майор Ушаков, а шлейф её несли четыре прапорщика гвардии; потом принцесса Прасковия, также в глубочайшем трауре; её вели контр-адмирал Сенявин и генерал-адъютант Нарышкин, а шлейф несли четыре молодых дворянина и унтер-офицера гвардии. За ними шли ещё две незнакомые мне дамы с закрытыми лицами и потом уж императрица, которую вели сенатор Толстой и новый сенатор Долгорукий. Шлейф её несли два камер-юнкера. Она также была в глубоком трауре и с закрытым лицом. Её величество сопровождали все прочие дамы в глубоком трауре и с закрытыми лицами. Начиная от колесницы до самого конца процессии шли один за другим человек сорок унтер-офицеров гвардии, и процессия как открывалась, так и заключалась опять поручиком с 18 или 20 унтер-офицерами. От начала её до конца по обеим сторонам шли, очень близко один от другого, солдаты с зажженными факелами, и их было человек с лишком сто. В этом порядке вся процессия подвигалась пешком от дома покойной царицы до Александро-Невского монастыря, до которого оттуда более трех верст или половины немецкой мили. Принцесса Прасковия, чувствуя большую слабость, не могла долго идти, а потому ещё недалеко от дома села уж в свою карету, которая ехала позади; но герцогиня прошла довольно много и когда наконец также села в карету, императрица и все дамы тотчас же последовали её примеру и сели в свои кареты, следовавшие за процессией. Между тем мужчины должны были всю дорогу идти пешком, при чём мы не только страшно мерзли (потому что подвигались вперед очень медленно и часто останавливаясь), но и немало страдали от самой дороги, которая, всегда очень грязная, в последнее время сильно обледенела. Надобно было принимать всевозможные предосторожности, чтоб не упасть. Младшая принцесса с маленьким великим князем и старшие императорские принцессы сидели все время в каретах. В 6 часов мы достигли наконец до монастыря после шествия, продолжавшегося с лишком два часа. Процессия была встречена перед монастырем всеми его монахами и духовенством, перед которыми несли на высоких шестах две иконы. На монастырском дворе тело сняли с колесницы, и полковники торжественно внесли его в церковь. Все факельщики выстроились в ряды на этом дворе, а унтер-офицеры стали перед церковью. Гроб поставлен был против алтаря на возвышении о 4 или 5 ступенях, после чего полковники опять сняли с него крышку. Затем духовенство приступило к обыкновенной похоронной церемонии с пением, каждением и молитвами, а по прошествии некоторого времени удалилось в царские двери. После того между алтарем и покойницей поставлен был небольшой налой, к которому подошел один молодой священнослужитель и начал говорить похоронную проповедь, продолжавшуюся почти целый час. По окончании её духовенство вышло опять из царских дверей, и тут архиепископ Новгородский прочел отпущение (den Pasz), которое потом положил в гроб, но не в руку усопшей, как это обыкновенно делается. В заключение все духовные подошли к гробу и один за другим целовали руку покойницы; за ними обе огорченные принцессы взведены были на возвышение и в последний раз целовали руку своей матери. Они громко рыдали. После них подошла императрица и поцеловала покойную в рот. За нею подходили все дамы, а потом все мужчины, не исключая даже и певчих, и целовали умершей руку. После всех поцеловал её император. Тогда, по непременному желанию покойной царицы, ей положен был на лицо портрет её супруга, зашитый в белую обьярь, и гроб накрыли крышкою. Его снова поставили на носилки и отнесли с церемониею в часовню, которая хотя и готова уже в новом здании монастыря, но ещё не освящена. Там перед алтарем его опустили в могилу. Из монастыря все присутствовавшие, уже без всякой процессии, отправились опять в дом покойной, куда были приглашены на обед. Император встал из-за стола уже в 11 часов и простился с герцогиней и принцессой Прасковией; после чего и его высочество последовал его примеру».
- Прасковья Иоанновна // Русский биографический словарь : в 25 томах. - СПб. -М ., 1896-1918.
Литература
- Семевский М. И. Царица Прасковья. 1664-1723: Очерк из русской истории XVIII века. М., 1989. Первое издание - 1883.
|
||||||||||||||||
Ошибка Lua в Модуль:External_links на строке 245: attempt to index field "wikibase" (a nil value).
Отрывок, характеризующий Салтыкова, Прасковья Фёдоровна
– Вспомню?! Как же я могу вспомнить то, чего ещё нет?..– ошарашено уставилась на неё я.– Оно есть, только не здесь.
У неё была очень тёплая улыбка, которая её необыкновенно красила. Казалось, будто майское солнышко выглянуло из-за тучки и осветило всё вокруг.
– А ты здесь совсем одна, на Земле? – никак не могла поверить я.
– Конечно же – нет. Нас много, только разных. И мы живём здесь очень давно, если ты это хотела спросить.
– А что вы здесь делаете? И почему вы сюда пришли? – не могла остановиться я.
– Мы помогаем, когда это нужно. А откуда пришли – я не помню, я там не была. Только смотрела, как ты сейчас... Это мой дом.
Девчушка вдруг стала очень печальной. И мне захотелось хоть как-то ей помочь, но, к моему большому сожалению, пока это было ещё не в моих маленьких силах...
– Тебе очень хочется домой, правда же? – осторожно спросила я.
Вэя кивнула. Вдруг её хрупкая фигурка ярко вспыхнула... и я осталась одна – «звёздная» девочка исчезла. Это было очень и очень нечестно!.. Она не могла так просто взять и уйти!!! Такого никак не должно было произойти!.. Во мне бушевала самая настоящая обида ребёнка, у которого вдруг отняли самую любимую игрушку... Но Вэя не была игрушкой, и, если честно, то я должна была быть ей благодарна уже за то, что она вообще ко мне пришла. Но в моей «исстрадавшейся» душе в тот момент крушил оставшиеся крупицы логики настоящий «эмоциональный шторм», а в голове царил полный сумбур... Поэтому ни о каком «логическом» мышлении в данный момент речи идти не могло, и я, «убитая горем» своей страшной потери, полностью «окунулась» в океан «чёрного отчаяния», думая, что моя «звёздная» гостья больше уже никогда ко мне не вернётся... Мне о скольком ещё хотелось её спросить! А она так неожиданно взяла и исчезла... И тут вдруг мне стало очень стыдно... Если бы все желающие спрашивали её столько же, сколько хотела спросить я, у неё, чего доброго, не оставалось бы время жить!.. Эта мысль как-то сразу меня успокоила. Надо было просто с благодарностью принимать всё то чудесное, что она успела мне показать (даже если я ещё и не всё поняла), а не роптать на судьбу за недостаточность желаемого «готовенького», вместо того, чтобы просто пошевелить своими обленившимися «извилинами» и самой найти ответы на мучившие меня вопросы. Я вспомнила бабушку Стеллы и подумала, что она была абсолютно права, говоря о вреде получения чего-то даром, потому что ничего не может быть хуже, чем привыкший всё время только брать человек. К тому же, сколько бы он ни брал, он никогда не получит радости того, что он сам чего то достиг, и никогда не испытает чувства неповторимого удовлетворения оттого, что сам что-либо создал.
Я ещё долго сидела одна, медленно «пережёвывая» данную мне пищу для размышлений, с благодарностью думая об удивительной фиолетовоглазой «звёздной» девчушке. И улыбалась, зная, что теперь уже точно ни за что не остановлюсь, пока не узнаю, что же это за друзья, которых я не знаю, и от какого такого сна они должны меня разбудить... Тогда я не могла ещё даже представить, что, как бы я не старалась, и как бы упорно не пробовала, это произойдёт только лишь через много, много лет, и меня правда разбудят мои «друзья»... Только это будет совсем не то, о чём я могла когда-либо даже предположить...
Но тогда всё казалось мне по-детски возможным, и я со всем своим не сгорающим пылом и «железным» упорством решила пробовать...
Как бы мне ни хотелось прислушаться к разумному голосу логики, мой непослушный мозг верил, что, несмотря на то, что Вэя видимо совершенно точно знала, о чём говорила, я всё же добьюсь своего, и найду раньше, чем мне было обещано, тех людей (или существ), которые должны были мне помочь избавиться от какой-то там моей непонятной «медвежьей спячки». Сперва я решила опять попробовать выйти за пределы Земли, и посмотреть, кто там ко мне придёт... Ничего глупее, естественно, невозможно было придумать, но так как я упорно верила, что чего-то всё-таки добьюсь – приходилось снова с головой окунаться в новые, возможно даже очень опасные «эксперименты»...
Моя добрая Стелла в то время почему-то «гулять» почти перестала, и, непонятно почему, «хандрила» в своём красочном мире, не желая открыть мне настоящую причину своей грусти. Но мне всё-таки как-то удалось уговорить её на этот раз пойти со мной «прогуляться», заинтересовав опасностью планируемого мною приключения, и ещё тем, что одна я всё же ещё чуточку боялась пробовать такие, «далеко идущие», эксперименты.
Я предупредила бабушку, что иду пробовать что-то «очень серьёзное», на что она лишь спокойно кивнула головой и пожелала удачи (!)... Конечно же, это меня «до косточек» возмутило, но решив не показывать ей своей обиды, и надувшись, как рождественский индюк, я поклялась себе, что, чего бы мне это не стоило, а сегодня что-то да произойдёт!... Ну и конечно же – оно произошло... только не совсем то, чего я ожидала.
Стелла уже ждала меня, готовая на «самые страшные подвиги», и мы, дружно и собранно устремились «за предел»...
На этот раз у меня получилось намного проще, может быть потому, что это был уже не первый раз, а может ещё и потому, что был «открыт» тот же самый фиолетовый кристалл... Меня пулей вынесло за предел ментального уровня Земли, и вот тут-то я поняла, что чуточку перестаралась... Стелла, по общему договору, ждала на «рубеже», чтобы меня подстраховать, если увидит, что что-то пошло не так... Но «не так» пошло уже с самого начала, и там, где я в данный момент находилась, она, к моему великому сожалению, уже не могла меня достать.
Вокруг холодом ночи дышал чёрный, зловещий космос, о котором я мечтала столько лет, и который пугал теперь своей дикой, неповторимой тишиной... Я была совсем одна, без надёжной защиты своих «звёздных друзей», и без тёплой поддержки своей верной подружки Стеллы... И, несмотря на то, что я видела всё это уже не в первый раз, я вдруг почувствовала себя совсем маленькой и одинокой в этом незнакомом, окружающем меня мире далёких звёзд, которые здесь выглядели совсем не такими же дружелюбными и знакомыми, как с Земли, и меня понемногу стала предательски охватывать подленькая, трусливо пищащая от неприкрытого ужаса, паника... Но так как человечком я всё ещё была весьма и весьма упёртым, то решила, что нечего раскисать, и начала осматриваться, куда же это всё-таки меня занесло...
Я висела в чёрной, почти физически ощутимой пустоте, а вокруг лишь иногда мелькали какие-то «падающие звёзды», оставляя на миг ослепительные хвосты. И тут же, вроде бы, совсем рядом, мерцала голубым сиянием такая родная и знакомая Земля. Но она, к моему великому сожалению, только казалась близкой, а на самом деле была очень и очень далеко... И мне вдруг дико захотелось обратно!!!.. Уже не хотелось больше «геройски преодолевать» незнакомые препятствия, а просто очень захотелось вернуться домой, где всё было таким родным и привычным (к тёплым бабушкиным пирогам и любимым книгам!), а не висеть замороженной в каком то чёрном, холодном «безмирье», не зная, как из всего этого выбраться, да притом, желательно без каких-либо «ужасающих и непоправимых» последствий... Я попробовала представить единственное, что первое пришло в голову – фиолетовоглазую девочку Вэю. Почему-то не срабатывало – она не появлялась. Тогда попыталась развернуть её кристалл... И тут же, всё вокруг засверкало, засияло и закружилось в бешеном водовороте каких-то невиданных материй, я почувствовала будто меня резко, как большим пылесосом, куда-то втянуло, и тут же передо мной «развернулся» во всей красе уже знакомый, загадочный и прекрасный Вэйин мир.... Как я слишком поздно поняла – ключом в который и являлся мой открытый фиолетовый кристалл...
Я не знала, как далеко был этот незнакомый мир... Был ли он на этот раз реальным? И уж совершенно не знала, как из него вернуться домой... И не было никого вокруг, у кого я могла бы хоть что-либо спросить...
Передо мной простиралась дивная изумрудная долина, залитая очень ярким, золотисто-фиолетовым светом. По чужому розоватому небу, искрясь и сверкая, медленно плыли золотистые, облака, почти закрывая одно из солнц. Вдалеке виднелись очень высокие, остроконечные, блестящие тяжёлым золотом, чужие горы... А прямо у моих ног, почти по-земному, журчал маленький, весёлый ручеек, только вода в нём была совсем не земная – «густая» и фиолетовая, и ни чуточки не прозрачная... Я осторожно окунула руку – ощущение было потрясающим и очень неожиданным – будто коснулась мягкого плюшевого мишки... Тёплое и приятное, но уж никак не «свежее и влажное», как мы привыкли ощущать на Земле. Я даже усомнилась, было ли это тем, что на Земле называлось – «вода»?..
Дальше «плюшевый» ручеек убегал прямо в зелёный туннель, который образовывали, сплетаясь между собой, «пушистые» и прозрачные, серебристо-зелёные «лианы», тысячами висевшие над фиолетовой «водой». Они «вязали» над ней причудливый рисунок, который украшали малюсенькие «звёздочки» белых, сильно пахнувших, невиданных цветов.
Да, этот мир был необычайно красив... Но в тот момент я бы многое отдала, чтобы оказаться в своём, может и не таком красивом, но за то таком знакомом и родном, земном мире!.. Мне впервые было так страшно, и я не боялась себе честно это признать... Я была совершенно одна, и некому было дружески посоветовать, что же делать дальше. Поэтому, не имея другого выбора, и как-то собрав всю свою «дрожавшую» волю в кулак, я решилась двинуться куда-нибудь дальше, чтобы только не стоять на месте и не ждать, когда что-то жуткое (хотя и в таком красивом мире!) произойдёт.
– Как ты сюда попала? – послышался, в моём измученном страхом мозгу, ласковый голосок.
Я резко обернулась... и опять столкнулась с прекрасными фиолетовыми глазами – позади меня стояла Вэя...
– Ой, неужели это ты?!!.. – от неожиданного счастья, чуть ли не завизжала я.
– Я видела, что ты развернула кристалл, я пришла помочь, – совершенно спокойно ответила девочка.
Только её большие глаза опять очень внимательно всматривались в моё перепуганное лицо, и в них теплилось глубокое, «взрослое» понимание.
– Ты должна верить мне, – тихо прошептала «звёздная» девочка.
И мне очень захотелось ей сказать, что, конечно же – я верю!.. И что это просто мой дурной характер, который всю жизнь заставляет меня «биться головой об стенку», и этими же, собственноручно набитыми шишками, постигать окружающий мир... Но Вэя видимо всё прекрасно поняла, и, улыбнувшись своей удивительной улыбкой, приветливо сказала:
– Хочешь, покажу тебе свой мир, раз ты уже здесь?..
Я только радостно закивала головой, уже снова полностью воспрянув духом и готовая на любые «подвиги», только лишь потому, что я уже была не одна, и этого было достаточно, чтобы всё плохое мгновенно забылось и мир опять казался увлекательным и прекрасным.
– Но ты ведь говорила, что никогда здесь не была? – расхрабрившись, спросила я.
– А я и сейчас не здесь, – спокойно ответила девочка. – С тобой моя сущность, но моё тело никогда не жило там. Я никогда не знала свой настоящий дом... – её огромные глаза наполнились глубокой, совсем не детской печалью.
– А можно тебя спросить – сколько тебе лет?.. Конечно, если не хочешь – не отвечай, – чуть смутившись, спросила я.
– По земному исчислению, наверное это будет около двух миллионов лет, – задумчиво ответила «малышка».
У меня от этого ответа ноги почему-то вдруг стали абсолютно ватными... Этого просто не могло быть!.. Никакое существо не в состоянии жить так долго! Или, смотря какое существо?..
– А почему же тогда ты выглядишь такой маленькой?! У нас такими бывают только дети... Но ты это знаешь, конечно же.
– Такой я себя помню. И чувствую – это правильно. Значит так и должно быть. У нас живут очень долго. Я, наверное, и есть маленькая...
У меня от всех этих новостей закружилась голова... Но Вея, как обычно, была удивительно спокойна, и это придало мне сил спрашивать дальше.
– А кто же у вас зовётся взрослым?.. Если такие есть, конечно же.
– Ну, разумеется! – искренне рассмеялась девочка. – Хочешь увидеть?
Я только кивнула, так как у меня вдруг с перепугу полностью перехватило горло, и куда-то потерялся мои «трепыхавшийся» разговорный дар... Я прекрасно понимала, что вот прямо сейчас увижу настоящее «звёздное» существо!.. И, несмотря на то, что, сколько я себя помнила, я всю свою сознательную жизнь этого ждала, теперь вдруг вся моя храбрость почему-то быстренько «ушла в пятки»...
Вея махнула ладошкой – местность изменилась. Вместо золотых гор и ручья, мы оказались в дивном, движущемся, прозрачном «городе» (во всяком случае, это было похоже на город). А прямо к нам, по широкой, мокро-блестящей серебром «дороге», медленно шёл потрясающий человек... Это был высокий гордый старец, которого нельзя было по-другому назвать, кроме как – величественный!.. Всё в нём было каким-то очень правильным и мудрым – и чистые, как хрусталь, мысли (которые я почему-то очень чётко слышала); и длинные, покрывающие его мерцающим плащом, серебристые волосы; и те же, удивительно добрые, огромные фиолетовые «Вэины» глаза... И на его высоком лбу сиявшая, дивно сверкающая золотом, бриллиантовая «звезда».
– Покоя тебе, Отец, – коснувшись пальчиками своего лба, тихо произнесла Вея.
– И тебе, ушедшая, – печально ответил старец.
От него веяло бесконечным добром и лаской. И мне вдруг очень захотелось, как маленькому ребёнку, уткнуться ему в колени и, спрятаться от всего хотя бы на несколько секунд, вдыхая исходящий от него глубокий покой, и не думать о том, что мне страшно... что я не знаю, где мой дом... и, что я вообще не знаю – где я, и что со мной в данный момент по-настоящему происходит...
– Кто ты, создание?.. – мысленно услышала я его ласковый голос.
– Я человек, – ответила я. – Простите, что потревожила ваш покой. Меня зовут Светлана.
Старец тепло и внимательно смотрел на меня своими мудрыми глазами, и в них почему-то светилось одобрение.
– Ты хотела увидеть Мудрого – ты его видишь, – тихо произнесла Вея. – Ты хочешь что-то спросить?
– Скажите пожалуйста, в вашем чудесном мире существует зло? – хотя и стыдясь своего вопроса, всё же решилась спросить я.
– Что ты называешь «злом», Человек-Светлана? – спросил мудрец.
– Ложь, убийство, предательство... Разве нет у вас таких слов?..
– Это было давно... уже никто не помнит. Только я. Но мы знаем, что это было. Это заложено в нашу «древнюю память», чтобы никогда не забыть. Ты пришла оттуда, где живёт зло?
Я грустно кивнула. Мне было очень обидно за свою родную Землю, и за то, что жизнь на ней была так дико несовершенна, что заставляла спрашивать подобные вопросы... Но, в то же время, мне очень хотелось, чтобы Зло ушло из нашего Дома навсегда, потому что я этот дом всем своим сердцем любила, и очень часто мечтала о том, что когда-нибудь всё-таки придёт такой чудесный день, когда:
человек будет с радостью улыбаться, зная, что люди могут принести ему только добро...
когда одинокой девушке не страшно будет вечером проходить самую тёмную улицу, не боясь, что кто-то её обидит...
когда можно будет с радостью открыть своё сердце, не боясь, что предаст самый лучший друг...
когда можно будет оставить что-то очень дорогое прямо на улице, не боясь, что стоит тебе отвернуться – и это сразу же украдут...
И я искренне, всем сердцем верила, что где-то и вправду существует такой чудесный мир, где нет зла и страха, а есть простая радость жизни и красоты... Именно поэтому, следуя своей наивной мечте, я и пользовалась малейшей возможностью, чтобы хоть что-то узнать о том, как же возможно уничтожить это же самое, такое живучее и такое неистребимое, наше земное Зло... И ещё – чтобы уже никогда не было стыдно кому-то где-то сказать, что я – Человек...
Конечно же, это были наивные детские мечты... Но ведь и я тогда была ещё всего лишь ребёнком.
– Меня зовут Атис, Человек-Светлана. Я живу здесь с самого начала, я видел Зло... Много зла...
– А как же вы от него избавились, мудрый Атис?! Вам кто-то помог?.. – с надеждой спросила я. – Можете ли вы помочь нам?.. Дать хотя бы совет?
– Мы нашли причину... И убили её. Но ваше зло неподвластно нам. Оно другое... Так же, как другие и вы. И не всегда чужое добро может оказаться добром для вас. Вы должны найти сами свою причину. И уничтожить её, – он мягко положил руку мне на голову и в меня заструился чудесный покой... – Прощай, Человек-Светлана... Ты найдёшь ответ на свой вопрос. Покоя тебе...
Я стояла глубоко задумавшись, и не обратила внимания, что реальность меня окружавшая, уже давно изменилась, и вместо странного, прозрачного города, мы теперь «плыли» по плотной фиолетовой «воде» на каком-то необычном, плоском и прозрачном приспособлении, у которого не было ни ручек, ни вёсел – вообще ничего, как если бы мы стояли на большом, тонком, движущемся прозрачном стекле. Хотя никакого движения или качки совершенно не чувствовалось. Оно скользило по поверхности на удивление плавно и спокойно, заставляя забыть, что двигалось вообще...
– Что это?.. Куда мы плывём? – удивлённо спросила я.
– Забрать твою маленькую подружку, – спокойно ответила Вэя.
– Но – как?!. Она ведь не сможет?..
– Сможет. У неё такой же кристалл, как у тебя, – был ответ. – Мы её встретим у «моста», – и ничего более не объяснив, она вскоре остановила нашу странную «лодку».
Теперь мы уже находились у подножья какой-то блестящей «отполированной» чёрной, как ночь, стены, которая резко отличалась от всего светлого и сверкающего вокруг, и казалась искусственно созданной и чужеродной. Неожиданно стена «расступилась», как будто в том месте состояла из плотного тумана, и в золотистом «коконе» появилась... Стелла. Свеженькая и здоровенькая, будто только что вышла на приятную прогулку... И, конечно же – дико довольная происходящим... Увидев меня, её милая мордашка счастливо засияла и по-привычке она сразу же затараторила:
– А ты тоже здесь?!... Ой, как хорошо!!! А я так волновалась!.. Так волновалась!.. Я думала, с тобой обязательно что-то случилось. А как же ты сюда попала?.. – ошарашено уставилась на меня малышка.
– Думаю так же, как и ты, – улыбнулась я.
– А я, как увидела, что тебя унесло, сразу попробовала тебя догнать! Но я пробовала, пробовала и ничего не получалось... пока вот не пришла она. – Стелла показала ручкой на Вэю. – Я тебе очень за это благодарна, девочка Вэя! – по своей забавной привычке обращаться сразу к двоим, мило поблагодарила она.
– Этой «девочке» два миллиона лет... – прошептала своей подружке на ушко я.
Стеллины глаза округлились от неожиданности, а сама она так и осталась стоять в тихом столбняке, медленно переваривая ошеломляющую новость...
– Ка-а-ак – два миллиона?.. А что же она такая маленькая?.. – выдохнула обалдевшая Стелла.
– Да вот она говорит, что у них долго живут... Может и твоя сущность оттуда же? – пошутила я. Но Стелле моя шутка, видимо, совсем не понравилась, потому, что она тут же возмутилась:
– Как же ты можешь?!.. Я ведь такая же, как ты! Я же совсем не «фиолетовая»!..
Мне стало смешно, и чуточку совестно – малышка была настоящим патриотом...
Как только Стелла здесь появилась, я сразу же почувствовала себя счастливой и сильной. Видимо наши общие, иногда опасные, «этажные прогулки» положительно сказывались на моём настроении, и это сразу же ставило всё на свои места.
Стелла в восторге озиралась по сторонам, и было видно, что ей не терпится завалить нашего «гида» тысячей вопросов. Но малышка геройски сдерживалась, стараясь казаться более серьёзной и взрослой, чем она на самом деле была...
– Скажи пожалуйста, девочка Вэя, а куда нам можно пойти? – очень вежливо спросила Стелла. По всей видимости, она так и не смогла «уложить» в своей головке мысль о том, что Вэя может быть такой «старой»...
– Куда желаете, раз уж вы здесь, – спокойно ответила «звёздная» девочка.
Мы огляделись вокруг – нас тянуло во все стороны сразу!.. Было невероятно интересно и хотелось посмотреть всё, но мы прекрасно понимали, что не можем находиться здесь вечно. Поэтому, видя, как Стелла ёрзает на месте от нетерпения, я предложила ей выбирать, куда бы нам пойти.
– Ой, пожалуйста, а можно нам посмотреть, какая у вас здесь «живность»? – неожиданно для меня, спросила Стелла.
Конечно же, я бы хотела посмотреть что-то другое, но деваться было некуда – сама предложила ей выбирать...
Мы очутились в подобии очень яркого, бушующего красками леса. Это было совершенно потрясающе!.. Но я вдруг почему-то подумала, что долго я в таком лесу оставаться не пожелала бы... Он был, опять же, слишком красивым и ярким, немного давящим, совсем не таким, как наш успокаивающий и свежий, зелёный и светлый земной лес.
Наверное, это правда, что каждый должен находиться там, чему он по-настоящему принадлежит. И я тут же подумала о нашей милой «звёздной» малышке... Как же ей должно было не хватать своего дома и своей родной и знакомой среды!.. Только теперь я смогла хотя бы чуточку понять, как одиноко ей должно было быть на нашей несовершенной и временами опасной Земле...
– Скажи пожалуйста, Вэя, а почему Атис назвал тебя ушедшей? – наконец-то спросила назойливо кружившейся в голове вопрос я.
– О, это потому, что когда-то очень давно, моя семья добровольно ушла помогать другим существам, которым нужна была наша помощь. Это у нас происходит часто. А ушедшие уже не возвращаются в свой дом никогда... Это право свободного выбора, поэтому они знают, на что идут. Вот потому Атис меня и пожалел...
– А кто же уходит, если нельзя вернуться обратно? – удивилась Стелла.
– Очень многие... Иногда даже больше чем нужно, – погрустнела Вэя. – Однажды наши «мудрые» даже испугались, что у нас недостаточно останется виилисов, чтобы нормально обживать нашу планету...
– А что такое – виилис? – заинтересовалась Стелла.
– Это мы. Так же, как вы – люди, мы – виилисы. А наша планета зовётся – Виилис. – ответила Вэя.
И тут только я вдруг поняла, что мы почему-то даже не додумались спросить об этом раньше!.. А ведь это первое, о чём мы должны были спросить!
– А вы менялись, или были такими всегда? – опять спросила я.
– Менялись, но только внутри, если ты это имела в виду, – ответила Вэя.
Над нашими головами пролетела огромная, сумасшедше яркая, разноцветная птица... На её голове сверкала корона из блестящих оранжевых «перьев», а крылья были длинные и пушистые, как будто она носила на себе разноцветное облако. Птица села на камень и очень серьёзно уставилась в нашу сторону...
– А что это она нас так внимательно рассматривает? – поёжившись, спросила Стелла, и мне показалось, что у неё в голове сидел другой вопрос – «обедала ли уже эта «птичка» сегодня?»...
Птица осторожно прыгнула ближе. Стелла пискнула и отскочила. Птица сделала ещё шаг... Она была раза в три крупнее Стеллы, но не казалась агрессивной, а скорее уж любопытной.
– Я что, ей понравилась, что ли? – надула губки Стелла. – Почему она не идёт к вам? Что она от меня хочет?..
Было смешно наблюдать, как малышка еле сдерживается, чтобы не пуститься пулей отсюда подальше. Видимо красивая птица не вызывала у неё особых симпатий...
Вдруг птица развернула крылья и от них пошло слепящее сияние. Медленно-медленно над крыльями начал клубиться туман, похожий на тот, который развевался над Вэйей, когда мы увидели её первый раз. Туман всё больше клубился и сгущался, становясь похожим на плотный занавес, а из этого занавеса на нас смотрели огромные, почти человеческие глаза...
– Ой, она что – в кого-то превращается?!.. – взвизгнула Стелла. – Смотрите, смотрите!..
Смотреть и правда было на что, так как «птица» вдруг стала «деформироваться», превращаясь то ли в зверя, с человеческими глазами, то ли в человека, со звериным телом...
– Что-о это? – удивлённо выпучила свои карие глазки моя подружка. – Что это с ней происходит?..
А «птица» уже выскользнула из своих крыльев, и перед нами стояло очень необычное существо. Оно было похоже на полуптицу-получеловека, с крупным клювом и треугольным человеческим лицом, очень гибким, как у гепарда, телом и хищными, дикими движениями... Она была очень красивой и, в то же время, очень страшной.
– Это Миард. – представила существо Вэя. – Если хотите, он покажет вам «живность», как вы говорите.
У существа, по имени Миард, снова начали появляться сказочные крылья. И он ими приглашающе махнул в нашу сторону.
– А почему именно он? Разве ты очень занята, «звёздная» Вэя?
У Стеллы было очень несчастное лицо, потому что она явно боялась это странное «красивое страшилище», но признаться в этом ей, по-видимому, не хватало духу. Думаю, она скорее бы пошла с ним, чем смогла бы признаться, что ей было просто-напросто страшно... Вэя, явно прочитав Стеллины мысли, тут же успокоила:
– Он очень ласковый и добрый, он понравится вам. Вы ведь хотели посмотреть живое, а именно он и знает это лучше всех.
Миард осторожно приблизился, как будто чувствуя, что Стелла его боится... А мне на этот раз почему-то совершенно не было страшно, скорее наоборот – он меня дико заинтересовал.
Он подошёл в плотную к Стелле, в тот момент уже почти пищавшей внутри от ужаса, и осторожно коснулся её щеки своим мягким, пушистым крылом... Над рыжей Стеллиной головкой заклубился фиолетовый туман.
– Ой, смотри – у меня так же, как у Вэйи!.. – восторженно воскликнула удивлённая малышка. – А как же это получилось?.. О-о-ой, как красиво!.. – это уже относилось к появившейся перед нашим взором новой местности с совершенно невероятными животными.
Мы стояли на холмистом берегу широкой, зеркальной реки, вода в которой была странно «застывшей» и, казалось, по ней можно было спокойно ходить – она совершенно не двигалась. Над речной поверхностью, как нежный прозрачный дымок, клубился искрящийся туман.
Как я наконец-то догадалась, этот «туман, который мы здесь видели повсюду, каким-то образом усиливал любые действия живущих здесь существ: открывал для них яркость видения, служил надёжным средством телепортации, вообще – помогал во всём, чем бы в тот момент эти существа не занимались. И думаю, что использовался для чего-то ещё, намного, намного большего, чего мы пока ещё не могли понять...
Река извивалась красивой широкой «змеёй» и, плавно уходя в даль, пропадала где-то между сочно-зелёными холмами. А по обоим её берегам гуляли, лежали и летали удивительные звери... Это было настолько красиво, что мы буквально застыли, поражённые этим потрясающим зрелищем...
Животные были очень похожи на невиданных царственных драконов, очень ярких и гордых, как будто знающих, насколько они были красивыми... Их длиннющие, изогнутые шеи сверкали оранжевым золотом, а на головах красными зубцами алели шипастые короны. Царские звери двигались медленно и величественно, при каждом движении блистая своими чешуйчатыми, перламутрово-голубыми телами, которые буквально вспыхивали пламенем, попадая под золотисто-голубые солнечные лучи.
– Красоти-и-и-ще!!! – в восторге еле выдохнула Стелла. – А они очень опасные?
– Здесь не живут опасные, у нас их уже давно нет. Я уже не помню, как давно... – прозвучал ответ, и тут только мы заметили, что Вэйи с нами нет, а обращается к нам Миард...
Стелла испуганно огляделась, видимо не чувствуя себя слишком комфортно с нашим новым знакомым...
– Значит опасности у вас вообще нет? – удивилась я.
– Только внешняя, – прозвучал ответ. – Если нападут.
– А такое тоже бывает?
– Последний раз это было ещё до меня, – серьёзно ответил Миард.
Его голос звучал у нас в мозгу мягко и глубоко, как бархат, и было очень непривычно думать, что это общается с нами на нашем же «языке» такое странное получеловеческое существо... Но мы наверное уже слишком привыкли к разным-преразным чудесам, потому что уже через минуту свободно с ним общались, полностью забыв, что это не человек.
– И что – у вас никогда не бывает никаких-никаких неприятностей?!. – недоверчиво покачала головкой малышка. – Но тогда вам ведь совсем не интересно здесь жить!..
В ней говорила настоящая, неугасающая Земная «тяга к приключениям». И я её прекрасно понимала. Но вот Миарду, думаю, было бы очень сложно это объяснить...
– Почему – не интересно? – удивился наш «проводник», и вдруг, сам себя прервав, показал в верх. – Смотрите – Савии!!!
Мы взглянули на верх и остолбенели.... В светло-розовом небе плавно парили сказочные существа!.. Они были совершенно прозрачны и, как и всё остальное на этой планете, невероятно красочны. Казалось, что по небу летели дивные, сверкающие цветы, только были они невероятно большими... И у каждого из них было другое, фантастически красивое, неземное лицо.
– О-ой.... Смотри-и-те... Ох, диво како-о-е... – почему-то шёпотом произнесла, совершенно ошалевшая Стелла.
По-моему, я никогда не видела её настолько потрясённой. Но удивиться и правда было чему... Ни в какой, даже самой буйной фантазии, невозможно было представить таких существ!.. Они были настолько воздушными, что казалось, их тела были сотканы из блистающего тумана... Огромные крылья-лепестки плавно колыхались, распыляя за собой сверкающую золотую пыль... Миард что-то странно «свистнул», и сказочные существа вдруг начали плавно спускаться, образуя над нами сплошной, вспыхивающий всеми цветами их сумасшедшей радуги, огромный «зонт»... Это было так красиво, что захватывало дух!..
Первой к нам «приземлилась» перламутрово-голубая, розовокрылая Савия, которая сложив свои сверкающие крылья-лепестки в «букет», начала с огромным любопытством, но безо всякой боязни, нас разглядывать... Невозможно было спокойно смотреть на её причудливую красоту, которая притягивала, как магнит и хотелось любоваться ею без конца...
– Не смотрите долго – Савии завораживают. Вам не захочется отсюда уходить. Их красота опасна, если не хотите себя потерять, – тихо сказал Миард.
– А как же ты говорил, что здесь ничего опасного нет? Значит это не правда? – тут же возмутилась Стелла.
– Но это же не та опасность, которую нужно бояться или с которой нужно воевать. Я думал вы именно это имели в виду, когда спросили, – огорчился Миард.
– Да ладно! У нас, видимо, о многом понятия будут разными. Это нормально, правда ведь? – «благородно» успокоила его малышка. – А можно с ними поговорить?
– Говорите, если сможете услышать. – Миард повернулся к спустившейся к нам, чудо-Савии, и что-то показал.
Дивное существо заулыбалось и подошло к нам ближе, остальные же его (или её?..) друзья всё также легко парили прямо над нами, сверкая и переливаясь в ярких солнечных лучах.
– Я Лилис...лис...ис...– эхом прошелестел изумительный голос. Он был очень мягким, и в то же время очень звонким (если можно соединить в одно такие противоположные понятия).
– Здравствуй, красивая Лилис. – радостно приветствовала существо Стелла. – Я – Стелла. А вот она – Светлана. Мы – люди. А ты, мы знаем, Савия. Ты откуда прилетела? И что такое Савия? – вопросы опять сыпались градом, но я даже не попыталась её остановить, так как это было совершенно бесполезно... Стелла просто «хотела всё знать!». И всегда такой оставалась.
Лилис подошла к ней совсем близко и начала рассматривать Стеллу своими причудливыми, огромными глазами. Они были ярко малиновые, с золотыми крапинками внутри, и сверкали, как драгоценные камни. Лицо этого чудо-существа выглядело удивительно нежным и хрупким, и имело форму лепестка нашей земной лилии. «Говорила» она, не раскрывая рта, в то же время улыбаясь нам своими маленькими, круглыми губами... Но, наверное, самыми удивительными у них были волосы... Они были очень длинными, почти достигали края прозрачного крыла, абсолютно невесомыми и, не имея постоянного цвета, всё время вспыхивали самыми разными и самыми неожиданными блестящими радугами... Прозрачные тела Савий были бесполы (как тело маленького земного ребёнка), и со спины переходили в «лепестки-крылья», что и вправду делало их похожими на огромные яркие цветы...
– Мы прилетели с гор-ор... – опять прозвучало странное эхо.
– А может ты нам быстрее расскажешь? – попросила Миарда нетерпеливая Стелла. – Кто они?
– Их привезли из другого мира когда-то. Их мир умирал, и мы хотели их спасти. Сперва думали – они смогут жить со всеми, но не смогли. Они живут очень высоко в горах, туда никто не может попасть. Но если долго смотреть им в глаза – они заберут с собой... И будешь жить с ними.
Стелла поёжилась и чуть отодвинулась от стоявшей рядом Лилис... – А что они делают, когда забирают?
– Ничего. Просто живут с теми, кого забирают. Наверно у них в мире было по-другому, а сейчас они делают это просто по-привычке. Но для нас они очень ценны – они «чистят» планету. Никто никогда не болел после того, как они пришли.
– Значит, вы их спасли не потому, что жалели, а потому, что они вам были нужны?!.. А разве это хорошо – использовать? – я испугалась, что Миард обидится (как говорится – в чужую хату с сапогами не лезь...) и сильно толкнула Стеллу в бок, но она не обратила на меня ни какого внимания, и теперь уже повернулась к Савии. – А вам нравится здесь жить? Вы грустите по своей планете?
– Нет-ет... Здесь красиво-сиво-иво...– прошелестел тот же мягкий голос. – И хорошо-ошо...
Лилис неожиданно подняла один из своих сверкающих «лепестков» и нежно погладила Стеллу по щеке.
– Малыш-ка... Хорошая-шая-ая... Стелла-ла-а... – и у Стеллы над головой второй раз засверкал туман, но на этот раз он был разноцветным...
Лилис плавно махнула прозрачными крыльями-лепестками и начала медленно подниматься, пока не присоединилась к своим. Савии заволновались, и вдруг, очень ярко вспыхнув, исчезли...